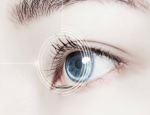Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных 300-летию РАН, которое мы празднуем в следующем году. В наших видеоинтервью профессора РАН, члены-корреспонденты и академики рассказывают о науке и технологическом суверенитете страны. Текстовая версия — сокращенная, полную смотрите в наших аккаунтах в Rutube, YouTube и во «ВКонтакте». Беседует научный редактор порталов, спецпредставитель Десятилетия науки и технологий Алексей Паевский. В одиннадцатом интервью мы поговорили с ученым, который соединяет в своей работе фундаментальную биологию и практическую медицину. Наш собеседник — член-корреспондент РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Вадимович Белоусов.
— Как вы пришли в науку?
— В школе я учился нормально, скажем так. Не могу сказать, что глубоко вникал в какие-то предметы. Скорее я хотел сделать уроки и пойти гулять на улицу. Мы все в те времена на улице росли, так что пойти гулять было нашей единственной и главной задачей. Однако когда я стал постарше, у меня появилась химия. И она мне понравилась, особенно неорганическая химия. Я фанатично заполнял в элементах таблиц все электронные уровни и подуровни. Мне нравилось, как стройно и логично все это выглядит. Потом пошла органика. Все эти ряды соединений, которые мы изучали, — все они такие правильные, аккуратные.
Потом я выиграл республиканскую олимпиаду по химии. А вот Всероссийскую проиграл. Из-за какого-то стаканчика с жижей, который я опрокинул. На последнем этапе олимпиады мы проводили эксперимент, и синтезированный мой продукт был в этом стаканчике. А еще в нем была длинная и тяжелая стеклянная палочка. Она и перевесила. Стаканчик упал, синтезированный продукт разлился, меня с позором удалили из числа призеров Всероссийской олимпиады.
Тем не менее в тот год объявили, что победители региональных олимпиад могут без экзаменов поступить на профильные отделения. Не знаю, по всей ли России так было, или только в Кабардино-Балкарии, где я проживал. Это был 1992 год. И я решил: «О, отлично, не надо экзамены сдавать». И я пошел на химическое отделение химико-биологического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета. Там же работал мой папа, который был ученым и тогда занимался физхимией полимеров.
Так я начал учиться на химико-биологическом факультете. Я проучился там два года. За это время я читал разные книги, которые собирал мой папа. Одна из них называлась, по-моему, «Открытие основных законов жизни». И там было в том числе про метаболизм, про все эти NAD, NADH, как бегают и запасаются электроны. Так как я любил химию, то я понял, что эта биохимия и есть некая высшая форма органической химии.
Соответственно, я начал думать, что надо бы этим заниматься где-то в другом месте, не в Кабардино-Балкарском госуниверситете, ситуация в котором в девяностые была сложной. И я решил, что надо попробовать перевестись в МГУ. Так совпало, что моему папе как раз в это время предложили работу в Москве, так мы и переехали. Хитрым путем я перевелся в МГУ с потерей года. Таким образом, я два года отучился в КБГУ, а потом оказался в МГУ. Там я и попал на кафедру биохимии.
— Сейчас вы руководитель крупного медицинского центра. Хватает ли времени на собственную научную деятельность? Какие направления в ней сейчас основные?
— Во-первых, редокс-биология, с которой я начинал, никуда не делась, она трансформировалась в то, что в какой-то момент мы сделали несколько поколений сенсоров пероксида водорода, среди которых один — вообще идеальный, который мы недавно в 2020 году или в 2021-м опубликовали. Но в какой-то момент мне стало понятно, что для того, чтобы понять роль активных форм кислорода в клетке, недостаточно их мерить, а надо уметь их там создавать каким-то способом. Так, чтобы мы умели еще и контролировать этот процесс.
Так мы начали заниматься метаболической инженерией или, как ее позже обозвали буржуйские ученые, хемогенетикой. Это когда мы кодируем какой-то фермент с заданной активностью, и с помощью определенных субстратов мы можем этим ферментом управлять. Есть вот такой фермент, который называется оксидаза D-аминокислот. Мы его доставляем в любые клетки, в любые органеллы. Он дезаминирует D-аминокислоты — правовращающие оптические изомеры аминокислот, у нас организме в основном — противоположные, левовращающие, L-изомеры. Когда даем этому ферменту нужный субстрат, он начинает его дезаминировать, а электроны сбрасывать на кислород, делать пероксид водорода. Таким образом, мы можем в клетку встроить синтетический генератор пероксида водорода, а затем привесить к нему любой маркер клеточного сортинга и утянуть его в митохондрии, или в ядро, или в пресинапс, или в постсинапс — куда угодно, делать с ним все то же самое, что с делают с зеленым флуоресцентным белком: направлять его в разные места клетки, в разные клетки, создавать трансгенных животных, что угодно. Дальше мы можем либо наливать на эти клетки D-аминокислоты определенные, либо, если это животное, просто поить его водой с D-аминокислотой. И там, в тех местах, где есть фермент, который мы закодировали, там появляется либо редокс-сигналинг, если мы чуть-чуть аминокислоты дали, либо окислительный стресс, если мы дали много аминокислоты или давали ее достаточно долго. Это привело к тому, что у нас появилась новая технология: управление окислительным стрессом. Мы сейчас занимаемся тем, что создаем новые модели заболеваний, связанных с окислительным стрессом.
Первой такой болезнью стала сердечная недостаточность. Мы совместно с Томасом Мишелом из Harvard Medical School экспрессировали этот фермент в сердце. У нас сейчас принята еще одна статья уже с моими коллегами из Геттингена, где это все мы проделали уже в трансгенном варианте: уже не вирусом доставляли фермент в клетки, а создали трансгенную мышь с оксидазой в сердце. Если ее поить D-аланином, у нее за две недели развивается сердечная недостаточность с типичными симптомами: у нее гипертрофия миокарда, у нее снижается фракция выброса, у нее много еще всего плохого происходит, а главное, ее можно лечить лекарствами. И это те же лекарства, которые лечат сердечную недостаточность. Это очень удобная неинвазивная модель. Но главное, что мы продемонстрировали, что окислительный стресс может быть причиной патологий.
Сейчас буквально несколько дней назад РНФ поддержал наш большой грант по созданию таких же моделей нейродегенераций. Мы будем доставлять эти ферменты в различные участки мозга. Это важно, потому что все модели нейродегенераций, которые сейчас существуют, они, скажем так, далеки от идеала, и зачастую не воспроизводят паталогический механизм: как эта болезнь зарождается, как она прогрессирует и так далее. Мы будем проверять нашу гипотезу о том, что многие нейродегенеративные заболевания в основе своей имеют окислительный стресс, который происходит локально.
— По нейродегенерации вы будете стараться окислительный стресс моделировать только в нейронах или в разных типах клеток мозга?
— Да, это правильный вопрос. В принципе, мы постараемся сделать и в астроцитах, и, возможно, в микроглии, эти клетки не менее важны для развития нейродегенерации. Но для начала можно и в нейронах моделировать, а можно — только в синапсах. Потому что именно синапсы нейронов являются очень уязвимым местом по отношению к окислительному стрессу. Вот такое первое направление, управляемая редокс-биология.
— А второе?
— Второе большое направление — это термогенетика, мы ее разработали как альтернативу оптогенетике. Это управление клетками при помощи рецепторов к теплу. Я много раз уже рассказывал о том, как это работает и почему это хорошо, — не буду повторяться. Однако скажу, что мы сейчас готовим несколько статей с новыми работами в этой области. Мы уже научились с помощью термогенетики, причем с помощью именно «человеческих» термочувствительных каналов рецепторов, управлять активностью мозга, мы научились управлять ритмом сердца и — немножко хуже получается пока, на животных больше технических сложностей, — управлять выбросом инсулина из поджелудочной железы.
И вот тут есть очень важный момент: поскольку TRP-рецепторы, терморецепторы лучше всего проводят кальций, универсальный мессенджер в клетках, термогенетика оказалась универсальным инструментом, которым можно управлять практически любыми клетками.
На животных мы это уже отработали и сейчас постепенно идем к человеку. Понятно, что это долгий путь, но сейчас уже ясно, что в клинику придет скорее термогенетика, чем оптогенетика. При этом у нее есть одно преимущество. Сейчас мы управляем кальциевыми каналами при помощи инфракрасного излучения, которое мы доставляем через оптические волокна, имплантированные, например, в мозг. Но есть еще один классный способ доставки тепла вглубь организма — причем практически на любую глубину: это сфокусированный ультразвук, а им можно доставлять тепло неинвазивно. Не просверливая, например, в черепе дыру и помещая туда оптоволокно. Можно работать проще, компактными носимыми или имплантированными устройствами всякими, ультразвуковыми. Я считаю, что термогенетика — такая медицина будущего.
— Как обстоит дело с термогенетикой сейчас в мире?
— Когда мы разработали этот метод, у нас просто не было конкурентов, мы были технологически на гораздо более высоком уровне. Однако сейчас в мире термогенетикой интересуются все, статьи выходят пачками. Но я думаю, что с человеческим каналом пока только нам удалось именно нормально все сделать: с поведением, с применением in vivo, управлением активностью, скоростью движения мыши. Ну а про сердце я вообще не говорю, термогенетически к сердцу пока не подобрался никто — кроме нас.
Полную версию интервью смотрите в видеоформате на наших ресурсах в Rutube, YouTube и во «ВКонтакте». Оператор: Снежана Шабанова.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.