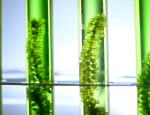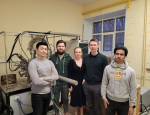В преддверии V международной конференции Volga Neuroscience Meeting 2025 прошла третья научная школа центра «Идея» «Нейропластичность, обучение и память», в рамках которой ведущие специалисты из разных стран рассказали о последних достижениях в области нейробиологии.
На третий день научной школы «Нейропластичность, обучение и память» профессор Му-Минг Пу погрузился в тему механизмов синаптической пластичности — фундаментального процесса, лежащего в основе обучения и памяти. Его выступление началось с исторической отсылки к классическому постулату Дональда Хебба (1949): «Нейроны, активирующиеся вместе, связаны вместе». Этот принцип объясняет, как одновременная активность пресинаптического и постсинаптического нейронов усиливает связь между ними, формируя нейронные ансамбли — материальную основу памяти.
Ключевыми механизмами пластичности, открытыми в 70–80-х годах, являются долгосрочная потенциация (LTP) и долгосрочная депрессия (LTD). LTP — это устойчивое усиление синаптической передачи, а LTD — ее ослабление. Оба процесса зависят от концентрации ионов кальция в постсинаптическом нейроне. Высокий уровень кальция активирует киназы, запускающие LTP, а низкий — фосфатазы, ответственные за LTD. Особую роль играют NMDA-рецепторы, действующие как «детекторы совпадений»: они открываются только при одновременном связывании глутамата и деполяризации мембраны, что позволяет нейронным сетям усиливать связи между сигналами, которые регулярно совпадают во времени, что является фундаментом для формирования ассоциаций.
Лектор подчеркнул, что пластичность не ограничивается биохимическими изменениями. Она сопровождается структурными перестройками: формированием новых дендритных шипиков при LTP и уменьшением их количества при LTD. Эти процессы наблюдаются не только в гиппокампе, но и в коре, например при формировании воспоминаний об экспериментальном воздействии, вызывающем у животного страх.
Отдельное внимание было уделено временной зависимости пластичности (STDP). Оказывается, точное время спайков критически важно: если пресинаптический нейрон активируется за несколько миллисекунд до постсинаптического, связь усиливается, а если после — ослабевает. Это правило лежит в основе обучения последовательностям, например распознаванию направления движения объектов.
Лекция завершилась обсуждением роли нейротрофинов (например, BDNF) — белков, которые выступают в качестве медиаторов и модуляторов пластичности. Их секреция зависит от активности нейронов, и они необходимы для консолидации долговременной памяти. Эти фундаментальные исследования открывают пути для терапии когнитивных расстройств, включая методы направленной стимуляции мозга, такие как tDCS, которые усиливают обучение только при применении во время выполнения задач.
Рабочая память: универсальный код разума у обезьян и ворон
Что общего у макаки, решающей головоломку на экране, и ворона, подсчитывающего количество точек? Оказывается, механизмы работы их «внутренней оперативной памяти» — рабочей памяти — поразительно похожи. Именно этому была посвящена лекция профессора Андреаса Нидера из Университета Тюбингена в Германии, раскрывшая нейронные основы одного из самых загадочных когнитивных процессов.
Рабочая память — это не просто кратковременное хранилище данных. Это сложный механизм, позволяющий удерживать информацию «в уме» в течение нескольких секунд, чтобы манипулировать ею и использовать для принятия решений. Его ключевые свойства — ограниченная емкость, хрупкость (легко забывается, если отвлечься) и осознанный характер.
Нидер и его коллеги показали, что главным «дирижером» этого процесса у приматов является префронтальная кора (PFC). В экспериментах обезьяны успешно выполняли задачи на запоминание местоположения или количества объектов. Когда ученые временно «отключали» PFC методом охлаждения, производительность животных резко падала, что указывает на ключевую роль именно этой области.
Самым удивительным открытием стало обнаружение в PFC узкоспециализированных нейронов. Среди них: нейроны числа (клетки, настроенные на конкретное количество, — например, активирующиеся только при виде двух или пяти объектов, независимо от их размера или расположения), а также нейроны правила (клетки, которые кодируют не сами стимулы, а абстрактное правило действия: «выбрать большее количество» или «выбрать такое же количество»).
Но настоящей сенсацией стало изучение мозга птиц. Несмотря на 300 миллионов лет независимой эволюции, у ворон в области NCL (nidopallium caudolaterale) были найдены такие же типы нейронов — и числа, и правила. Это яркий пример конвергентной эволюции: природа дважды нашла оптимальное решение для реализации высших когнитивных функций.
Лекция завершилась обсуждением двух моделей кодирования информации в рабочей памяти: статической (устойчивая активность одних и тех же нейронов) и динамической (меняющийся паттерн активности), — которые, вероятно, работают вместе.
Исследования Нидера не только раскрывают фундаментальные принципы работы разума, но и показывают, что сложное познание — это не прерогатива приматов, а универсальный продукт эволюции, который может возникать в самых разных по строению мозгах.
Сон — это не просто отдых: как мозг управляет состоянием сознания и зачем это нужно
Почему мы проводим треть жизни во сне, оставаясь уязвимыми для хищников? Спикер Ян Дан предложила радикально новый взгляд на эту древнюю загадку, представив «моторную теорию сна» и «гипотезу катехоламинов». Ее лекция переворачивает убеждения о сне как о пассивном состоянии, представляя его в качестве активного процесса, управляемого распределенными сетями мозга.
Ключевой вопрос лекции — «Как и почему мы спим?». Традиционно считалось, что сон контролируется локальными «центрами» (например, в преоптической области). Однако Дан доказала, что это не точечные центры, а сложная иерархическая система, вовлекающая моторные и автономные нейроны. Сон — это не просто «выключение» мозга, а скоординированное изменение состояния, затрагивающее три системы: соматическую моторную (обездвиживание тела), автономную моторную (сердцебиение, дыхание) и мозговую активность (переход к медленным волнам на ЭЭГ).
С помощью таких современных подходов, как оптогенетика и хемогенетика, команда Дан выявила конкретные нейроны, ответственные за переход между состояниями. Например, GAD2-нейроны в черной субстанции: их активация вызывает сон и подавляет движение, а инактивация — незамедлительное пробуждение животного.
Но самый интригующий аспект — «почему». Дан предложила гипотезу: главная функция сна — восстановление катехоламиновой передачи. Катехоламины (норадреналин, дофамин) — это молекулы бодрствования, стресса и внимания. Во время бодрствования их запасы истощаются, а синапсы «засоряются». Сон же позволяет снизить уровень норадреналина (NE), что дает возможность «перезагрузить» его систему, а также через P2Y12/Gi-сигналинг активирует микроглию, которая очищает нейроны от отходов метаболизма. Кроме того, запускается выброс гормона роста (GH), важного для процессов пластичности и восстановления тканей.
Лекция завершилась интригующим выводом: сон — это не роскошь, а механизм поддержания метаболического и синаптического гомеостаза. Его нарушение (например, при бессоннице или нейродегенерации) приводит к сбоям в катехоламиновой системе, что объясняет когнитивные нарушения и природу болезней. Представленное в рамках школы исследование открывает путь к созданию новых методов лечения, направленных не на простое «отключение», но на тонкую регуляцию нейронных сетей, управляющих состояниями сознания.
Эпигенетика и астроциты: как включить «сохранение» памяти и повлиять на разум
Возможность целенаправленного управления процессами памяти — усиления, ослабления или даже избирательного восстановления — долгое время не выходила за пределы области смелых гипотез. Однако результаты исследований, представленные Анастасией Бородиновой, демонстрируют, что эти перспективы постепенно обретают практическое воплощение в экспериментальных моделях. Ее работа стала важным шагом в изучении механизмов пластичности, где фокус смещается с самих нейронов и их ансамблей на их активное взаимодействие с глиальными клетками, в частности с астроцитами. Ранее считавшиеся просто вспомогательными, астроциты, как показали недавние данные, являются полноправными участниками процессов кодирования и консолидации памяти.
Ключевой объект обсуждения — энграммы, те самые ансамбли нейронов, которые хранят отдельные воспоминания. Бородинова показала, что судьба клетки — стать частью энграммы — определяется ее эпигенетическим профилем. Эпигенетические метки на ДНК и белках-гистонах действуют как молекулярные переключатели: так, ингибиторы гистондеацетилаз (HDAC) выступают в роли «усилителей памяти». Они «ослабляют хватку» ДНК, делая гены, связанные с пластичностью, более доступными. Это не просто улучшает память у здоровых животных, но и синхронизирует активность нейронов внутри энграммы, делая воспоминание более устойчивым и ярким. Метилирование ДНК (например, со стороны фермента Dnmt3a2) стабилизирует энграмму, закрепляя изменения в синапсах на долгое время. Таргетное воздействие на него позволяет точечно управлять прочностью воспоминаний.
Достойна внимания и следующая часть повествования, посвященная революционному взгляду на роль астроцитов. И снова оказывается, что эти глиальные клетки — не просто «поддержка», а активные участники когнитивных процессов. Бородинова и ее коллеги представили данные, подтверждающие и детализирующие роль специфических популяций астроцитов, ассоциированных с обучением (Learning-Associated Astrocytes, LAA), в процессах формирования и функционирования нейрональных ансамблей памяти. Они формируют тесные контакты с нейронами энграммы и избирательно регулируют их активность.
С помощью современных подходов (оптогенетики и хемогенетики) ученые научились управлять астроцитами: стимуляция одного типа рецепторов (Gq) усиливала синаптическую передачу и улучшала память, а стимуляция другого типа — ее подавляла. Таким образом, искусственная активация астроцитов, ассоциированных с обучением (LAA), может избирательно запускать поведенческие компоненты воспоминания (например, реакцию замирания от страха), даже если животное находится в новых, отличных от тех, что были ранее, условиях.
Лекция завершилась на воодушевляющей ноте: спикер рассказала о перспективах эпигенетического редактирования с помощью систем CRISPR/deadCas9. Это открывает возможность точечно регулировать активность генов не только в нейронах, но и в астроцитах, что потенциально позволит создать принципиально новые методы терапии нарушений памяти.
Основной вывод доклада: память — это не только нейроны и синапсы. Это сложный динамический ансамбль из нейронов, астроцитов и множества эпигенетических факторов, в котором каждый участник вносит свой неоценимый вклад. Умение управлять этим ансамблем открывает путь к лечению болезни Альцгеймера, последствий травм и, возможно, к усилению когнитивных способностей человека.
Разум в миниатюре: как пчелы бросают вызов нашим представлениям об интеллекте
Что, если сознание — не исключительная привилегия приматов, а универсальный продукт эволюции, который может уместиться в мозге размером с булавочную головку (1 мм3)? Этот провокационный вопрос стал центральным в выступлении Ларса Читтки из Лондонского Университета королевы Марии, посвященном когнитивным способностям пчел. Его исследования радикально меняют представления о минимальных требованиях к нервной системе, необходимых для осуществления сложного поведения.
Пчелы демонстрируют далеко не просто набор инстинктов, но полноценные когнитивные навыки. Они способны строить и оптимизировать маршруты к цветам, используя сложные ориентиры и даже подсчет объектов. Современные исследования показывают, как беспорядочный исследовательский полет постепенно превращается в маршрут с эффективной логистикой. Кроме того, пчелы демонстрируют удивительные способности к распознаванию образов — они узнают человеческие лица на фотографиях с точностью до 80%, а шмели в эксперименте Читтки показали кросс-модальное узнавание, различая на ощупь объекты, которые ранее только видели.
Особенно впечатляет способность этих насекомых считать до четырех или даже пяти, ориентируясь на количество точек независимо от их расположения, цвета или формы. Но, возможно, самым поразительным аспектом является использование инструментов и социальное обучение. Шмели научились тянуть за веревочку, чтобы получить награду, а затем это умение распространялось по колонии через наблюдение и повторение.
В экспериментах, в рамках которых пчелам, находящимся в специальной установке, нужно было сначала сдвинуть синюю клипсу и только затем красную, чтобы получить нектар, насекомые не только справлялись с поставленной задачей, но и учились друг у друга, распространяя внутри колонии единственный эффективный способ решения.
Лекция завершилась фундаментальным выводом: сложное познание может возникать на совершенно разных уровнях организации. Мозг пчелы, в котором около 1 миллиона нейронов, — это не примитивный процессор, а высокоэффективная система, способная к ассоциативному обучению, принятию решений и даже элементам игры. Эти исследования стирают грань между «инстинктом» и «разумом» и заставляют пересмотреть саму природу сознания, предполагая, что ключевые «ингредиенты» разума могут быть реализованы в самых неожиданных формах.
Мероприятие организовано научным центром «Идея» совместно с Институтом перспективных исследований мозга МГУ им. М. В. Ломоносова, при партнерском участии Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Научная школа проходит также при поддержке Десятилетия науки и технологий.
Руководитель программы «Мозг» и научный директор центра «Идея», член-корреспондент РАН Тагир Аушев говорит: «Научные школы — один из проектов программы "Мозг" научного центра "Идея". Он направлен на поддержку талантливых молодых специалистов в области нейронаук, на их профессиональное становление. Благодаря таким научным школам и другим проектам нашего центра молодые исследователи имеют возможность общаться на профессиональные темы не только со своим научным руководителем, но и с другими ведущими учеными, а еще и с такими же аспирантами, как они. В результате такого постоянного общения за 5 лет у нас сформировалось нейросайнс-коммьюнити из наиболее активных и мотивированных ученых: более старшего поколения и молодых, только начинающих свой путь в науке, но объединенных общими интересами и стремлениями. Каждая школа посвящена определённой тематике. В основе лекций школы 2025 года лежат знания о поведенческих и нейробиологических основах обучения, памяти и пластичности мозга. Будут рассмотрены результаты многолетней работы тысяч ученых из различных областей нейронауки, данные о самых последних открытиях и достижениях».
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.