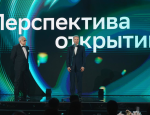Ученые и инженеры: мы хотим быть современными
— Илья, я хотел бы поговорить о вашем исследовании, посвященном позднесоветской научно-технической интеллигенции. Место науки и инженерии в советском обществе — как оно менялось? Если мы за отправную точку возьмем конец 1940-х, и до оттепели включительно?
— С одной стороны, после изобретения ядерной бомбы, Хиросимы и Нагасаки, изобретения компьютеров, вообще мощного технологического рывка во время Второй мировой войны возник мир высоких технологий, каким мы его знаем. Глобализация, которая, как ни парадоксально, очень интенсифицировалось именно во время войны, привела самых разных людей к пониманию того, что государства переходят в новый режим экономической конкуренции на мировой арене.
И в Советском Союзе конца 1940-х были реализованы две стратегии. Как теперь мы видим, они противоречили друг другу, но тогда так не казалось. Одно из них — разделение науки на открытую и закрытую части. Закрытая часть — анклав, который развивался по собственным законам. Это были секретные лаборатории, где работали арестованные ученые или вывезенные из Германии специалисты, которые фактически были военнопленными. Анклавная модернизация, по выражению философа Петра Сафронова.
А вторая часть науки, открытая, — это невиданное в истории ХХ века насаждение всякого рода лженауки и шарлатанства: лысенковщина, теория Ольги Лепешинской об образовании клеток из неживого вещества… И сопровождалось это запретом целых направлений в науке: теории резонанса Лайнуса Полинга, кибернетики, даже пытались запретить теорию относительности. То есть компьютеры создавались в «шарашках», а в открытой области критерии «научности» оказались тотально идеологизированы и вообще предстали как совершенно манипулируемые. Ученых зато пытались мобилизовать и воодушевить разговорами о том, что, возможно, все было изобретено в России: самолет, подводная лодка, парашют, все. Последствия этой манипуляции и инструментализации научности мы пожинаем до сих пор.
Ситуация искусственного разделения науки, когда в вузах могли преподавать откровенно шарлатанские концепции, стала постепенно меняться после смерти Сталина. Начался прилив молодежи в вузы на сложные инженерные и физические специальности, которые были тогда окружены большой романтикой (о чем мы можем до сих пор судить по фильму «Девять дней одного года»). Области высоких технологий и фундаментальной науки воспринимались как максимально свободные от идеологического контроля.
Очень быстро рос набор в инженерные вузы, на физфаки, на факультеты, связанные с электронно-вычислительными машинами. Так и стала формироваться новая группа советских ИТР — инженерно-технических работников. С новым самосознанием, ориентированным, во-первых, на современность, и, во-вторых, на понятие «интересного». То, чем ты занимаешься, должно быть интересно, причем не только на работе, но и в быту.
— Они больше хотели свободы для себя или власти над обществом, где они жили?
— Среди ИТР были люди, которые видели ситуацию в рамках бэконовской формулы «знание — сила» (Scientia potentia est) и вполне надеялись на то, что интеллигенты получат власть над обществом. Причем, поскольку было понятно, что партия «руль» не отдаст, эта власть мыслилась как не политическая, а интеллектуальная. Предполагалось, что будет прослойка людей, которая будет исподволь влиять на ЦК, на другие правящие круги и обеспечивать их более современной повесткой. Но повторю, что настолько амбициозных людей было совсем немного. Одна из таких программ была выработана в движении методологов, лидером которой был Георгий Щедровицкий.
New age и паранаука — способ объяснить мир для советских инженеров
— Скажите, а как в эту схему вписывались журналы, которым посвящено ваше исследование: «Техника — молодежи», «Знание — сила», «Наука и жизнь»?
— Центральная тема моей работы — какой проект знания, какой проект организации жизни научно-технические и научно-популярные журналы предлагали новой группе ИТР, которые хотели быть современными? Журналы, которые были созданы или «ребрендированы» в 1950-е годы, как раз и были рассчитаны на эту социальную группу. Те, что существовали прежде, в конце 1950-х были радикально перепрофилированы и ориентированы на максимально широкое распространение.
Например, новым редактором «Науки и жизни» был поставлен Виктор Болховитинов, и перед ним сразу встало задание сделать журнал самоокупаемым. Это при том, что тиражи литературно-художественных журналов типа «Нового мира» специально лимитировались из самого ЦК. Тираж «Нового мира» не доходил до 200 000 экземпляров, а у «Науки и жизни» в лучшие годы было три миллиона.
Научно-технические и научно-популярные журналы в СССР публиковали, схематически говоря, три типа статей. Сначала это были в основном популярные материалы про науку и технику, очень быстро к ним добавилась фантастика, как переводная, так и советская.
— Вы отмечаете в статье, что на Западе new age был настроен против науки, в СССР — наоборот…
— Точнее было бы сказать так: на Западе new age имел характер антипозитивистского и антибуржуазного движения — в моральном, не в экономическом смысле. То есть это была манифестация протеста против мещанства.
Это хорошо видно по таким программным текстам, как роман Роберта Хайнлайна «Чужак в чужой земле», где на Землю с Марса приходит новый мессия, который несет идею синтеза религий и демонстрирует мощнейшие парапсихологические способности. Герой романа — воплощенный вызов правилам «благоприличной жизни» и правящему классу Америки, это такой хипповский гуру. Роман Хайнлайна был очень популярным среди молодежи. Как, кстати, в том же духе переосмыслялся и «Властелин колец», когда хиппи писали на стенах «Фродо жив!».
В Советском Союзе же идеи new age использовались как способ демпфировать, амортизировать постоянное психологическое напряжение, вызванное контрастом между очень интенсивным развитием науки на нескольких участках, которые в СССР поощрялись и дозволялись, и очень статичным общественным устройством. Скорее даже так: советское общество быстро менялось, но, в отличие от западных стран, в СССР фактически была невозможна открытая дискуссия по общественным вопросам. Развитие страны постоянно вызывало у людей страх: страна меняется, но неясно, насколько это зависит от прихоти первого лица, насколько от «схватки бульдогов под ковром», насколько от каких-то скрытых экономических процессов…
— Я правильно вас понимаю, что выход был такой: это не политическая реальность таинственна, это вся реальность вообще таинственна?
— Именно так.
— Послушайте, но 1960-70-е были достаточно стабильными и спокойными годами, на макроуровне. Это все-таки не сороковые годы… Неужели был такой уж большой страх перед иррациональностью «большой» реальности?
— Он был, конечно, меньше, чем в 1930-е или во второй половине 1940-х, когда многие боялись ареста. С другой стороны, после Карибского кризиса было немало оснований бояться, что ядерная война может начаться по каким-то непредсказуемым причинам.
Но это не самое главное. В 1930-х годах все были разобщены, сидели по квартирам, в ужасе ожидая, не приедут ли за ними. А в шестидесятые люди общались между собой, и нужны были какие-то объединяющие идеи или символы. Название книги Даниила Данина «Неизбежность странного мира» было своего рода знаком или лозунгом, говорившим, что мир сложнее, чем изображается в пропаганде и в вульгаризированном советском марксизме.
Книга Данина не была самой популярной, но ее название эмблематично для эпохи 1960-х. Приобщение к «странному миру» было чем-то наподобие социальной анестезии — тем, чем можно успокоиться после рабочего дня. Кому-то хватало научно-популярных сочинений про «странный мир», но у целого ряда образованных людей рассказы о научных открытиях очень легко сочетались с интересом к «летающим тарелкам» и контактам древних людей с инопланетянами, а другие со временем начинали читать самиздатские сочинения диссидентов, следить за полемикой Солженицына и Сахарова и так далее.
Синтез паранауки, технократии и этнонационализма
— Давайте скорее этот синтез разложим сначала. Парадоксальным образом со второй половины 1960-х годов адепты нью-эйджа из числа редакторов научно-технических журналов все лучше находили общий язык с людьми из становящегося русского националистического движения (оно описано в книге Николая Митрохина «Русская партия»).
— Хорошо. Но спрошу вот о чем: вы пытаетесь очертить контуры своего рода синтеза: изобретательские задачи, советский DIY, new age и даже этнонационалистические идеи...
В журналах, которые с внешней точки зрения должны были быть оплотом рационализма и/или западнических идей, находили себе приют люди, которые писали про то, что этруски — это русские, что Россия существовала с незапамятных времен, и прочие псевдоисторические спекуляции. Об этом странном союзе можно почитать в недавних исследованиях антрополога Виктора Шнирельмана.
Я полагаю, что такая картина мира, при которой «ближнее пространство» человека регулируется рационально осмысливаемыми нормами и технологиями, а «дальнее» — представлением о совершенно непредсказуемом мире, где не действуют никакие законы, была своего рода стыковочным контуром для взаимодействия между научно-технической интеллигенцией и кругами этнонационалистов и конспирологов, которые любили поговорить про всемирный заговор. Главный редактор «Техники — молодежи» Василий Захарченко очень много общался с известным художником Ильей Глазуновым, который был пропагандистом всякого рода оккультных идей.
Такое парадоксальное сочетание вело к формированию культурно-интеллектуального контекста, в котором new age становился не революционной, а консервативной идеологией. Но консервировал он не общественный уклад, а способ думания о мире. При том что выглядел крайне современным: «летающие тарелки», идеи палеоконтакта (прилета инопланетян на Землю в древности), рассказы о паранормальных способностях, «кожном зрении», телепатии воспринимались в одном ряду с новейшими научными открытиями.
Начиная со второй половины 1960-х годов, в СССР начинается увлечение очень древней историей, о которой трудно судить точно. В научно-технических журналах публикуются статьи о том, как заселили Америку через Берингов пролив, который тогда не был проливом. Истории из жизни архаических, почти первобытных людей пользуются в это время явной популярностью – насколько можно судить, большей или по крайней мере не меньшей, чем рассказы о более близких к нам временах. Они излагаются сенсационным тоном (который был отчасти оправдан тем, что историческая антропология тогда и правда переживала период бурного роста), и именно по тону перекликались с рассказами о палеоконтактах – в такие же древние времена.
При всей разнице подходов, однако, люди, которые на Западе занимались популяризацией идей new age, легко находили общий язык с российскими его проповедниками. Например, Александр Казанцев, «зубр» сталинской фантастики, который конфликтовал с фантастами-«шестидесятниками», как, например, братья Стругацкие, прекрасно общался с Эрихом фон Дэникеном — швейцарским бизнесменом и пропагандистом идей палеоконтакта, снимался с ним в телепередаче «Очевидное-невероятное» и в его фильме «Воспоминания о будущем».
С 1960-х годов шел еще один процесс, который в журналах не отразился, но отразился в мировоззрении многих людей. Речь идет о технологизации идеологии, в том числе советской. Стоящую за этим процессом мысль можно сформулировать примерно так. Наука и техника так быстро развиваются, что люди, думающие технологически, смогут организовать общество и отношения между людьми более рационально.
На уровне общего принципа с такой мыслью согласились бы в 1960-е годы многие, но философ Георгий Щедровицкий разработал целостную последовательную концепцию, основанную именно на таком подходе. Он был уверен, что силами небольшого круга специально подготовленных людей можно реализовать очень сложные задачи по организации социальных систем безо всяких демократических механизмов. Идеи методологов, как я писал в 2007 году, сильно повлияли на постсоветских политтехнологов.
Интеллектуальные и культурные процессы 1970-х были одним из важных источников того кризиса, в котором сегодня находится наше общество, хотя, конечно, у него есть и «ближние» причины — действия и решения нынешних политических элит.
И все же и сами эти действия и решения, и современное состояние образованного сообщества имеют более дальние истоки. Один из них — это идея, согласно которой любые отношения между людьми — это вопрос технологии, а не этики и не моральной психологии. Под «моральной психологией» я имею в виду определение политолога Бернарда Яка, который предлагает так называть принятые в сообществе способы отношения к «своим» и к «чужим».
Второй источник — волна цинизма, которая пошла в 1970-е годы, когда началось ползучее падение веры в советскую идеологию. Любую нравственность стали воспринимать как пустые слова, которые нужно говорить просто для формы. Когда представление о технологизации политики наложилось на этот цинизм, получилась гремучая смесь, которая много раз взрывалась: и в 1990-е, и в 2000-е, и в 2010-е.
Плюсы и минусы борьбы с лженаукой
— Вы перекинули мостик к современности, а я продолжу. В российской публичной сфере, в дискуссиях о науке, обществе и человеке есть очень мощная технократическое «поле». Грубо говоря, научно-технический прогресс — биотехнологии, нанотехнологии, искусственный интеллект — вместе с рынком и демократией сейчас решат все «проклятые вопросы» общества и отношений между людьми. Причем подпитывается это «поле» в России именно западными идеями такого же плана.
— Технократизм в России — это не технократизм на Западе, при том что их легко перепутать. В европейских странах, насколько я себе представляю, он питается идеями, отчасти проанализированными в книге Юргена Хабермаса «Техника и наука как "идеология"». Это представление о том, что развитие техники и науки является самостоятельной эмансипирующей силой, однозначно позитивной. Плюс вера в прогресс, хотя после Первой и Второй мировых войн она была несколько подорвана. О позитивности науки и техники говорит не Хабермас, он анализировал это представление как самостоятельную идеологию.
Насколько я могу судить, класс политических менеджеров в России фетишизирует процедуру, а не науку и не технику. Не говоря уже о том, что в ряде случаев это представление приводит к цинической манипуляции: важно, чтобы по бумагам все сходилось, а что в реальности – не имеет значения.
— Я немного о другом. Та субкультура, которую вы описываете по советским журналам, сейчас существует, собственно, это и есть сфера популяризации науки, научпоп. И многие люди, работающие в этой сфере, утверждают значимость своего дела через борьбу с лженаукой — разоблачение и критику вещей, которые в советское время, если я вас правильно понял, описывались скорее комплиментарно. В СССР в научно-популярных журналах палеоконтакт, экстрасенсорные способности и так далее — хорошо и интересно, а сейчас — главный враг. Вы не видите в этом парадокса?
— Это довольно сложный процесс, даже сеть процессов, о которых вы говорите. Я сейчас не готов обсуждать, кто является наследником идеологии «расслоившегося мира», которую я описал в статье. Это даже не совсем идеология, а скорее имеющий идеологический и политический смысл образ мироздания, в котором дальнее окружение человека регулируется иррациональными нормами, ближнее окружение при необходимости можно переделать с помощью остроумно скомбинированных технологий, а о социальных и политических проблемах, находящихся посередине между «дальним» (космосом, природой) и «ближним» (домом), речь почти не идет.
В позднесоветское время, помимо распространения new age, шла и борьба с лженаукой. Очень было мало людей, которые спорили с лженаукой публично, и они, парадоксальным образом, тоже выступили в качестве проповедников new age: им приходилось рассказывать об идеях, с которыми они боролись. Яркий пример — Александр Китайгородский, который боролся с телепатией, оккультными идеями, но его тексты с критикой любых «ненормативных» гипотез и защитой традиционного образа науки воспринимались, как мне кажется, в одном контексте с рассказами собственно про телепатию и парапсихологию.
Сейчас в России есть плеяда ярких авторов, которые пишут научно-популярные книги о естественных науках. Часть их исповедует идеи радикального атеизма, который сам по себе имеет почти религиозный смысл. Значительная их часть стоит на позициях защиты рационализма, которые в современной России являются оппозиционными, потому что руководящие круги легко поощряют всякого рода шарлатанов, которые имеют хорошие связи.
Известный пример — история с фильтрами Петрика. В медиа можно найти множество демонстраций иррационального мировоззрения: «Битва экстрасенсов» по телевидению, реклама магов и ясновидящих в СМИ, сообщения о всяких таинственных феноменах в массовой прессе.
И все это еще накладывается на иррационализм некоторых священников, хотя нападать на разум – это плохое богословие, как мы помним еще из рассказа Честертона «Сапфировый крест». На этом фоне и российские авторы научно-популярных книг, и западные авторы, которых они проповедуют, например Ричард Докинз, выглядят защитниками рационализма «для всех», для верующих и неверующих.
У меня целый ряд знакомых считает, что гомеопатия — лженаука. Я так не считаю, хотя меня и смущает объяснительный язык гомеопатии, который прямо восходит к немецкой натурфилософии ХVIII века, странно такое встречать в современной медицине. Но для меня странно, что торжественное изгнание гомеопатии из храма науки случилось на фоне общего торжества иррационализма. Гомеопатия — политически одно из самых невинных движений в России в том смысле, что она минимально связана с нашим политическим истеблишментом.
Когда в Facebook у новых просветителей, назовем их так (круг фонда «Эволюция», премии «Просветитель) спрашивали, почему вы начали с гомеопатии, они ответили: надо же с чего-то начинать. Я полагаю, что они начали с наиболее социально невинного и наименее мракобесного по своему месседжу направления. Повторяю, существует множество откровенно оккультных и паранаучных направлений, которые имеют гораздо более очевидный консервативно-политический заряд, и анализ их импликаций более важен для понимания современного состояния общества, чем критика гомеопатии, но, конечно, и гораздо более сложен.
— Мне не совсем понятно другое. Современное массовое увлечение магами, экстрасенсами, ясновидящими — оно народно-языческое, вышло «из глубин» или же как-то связано с позднесоветской популяризацией паранауки в массовых научно-технических журналах?
— Мне кажется, ответ лежит посередине. Культ new age в позднесоветских научно-технических журналах чрезвычайно облегчил легитимацию подобного рода иррационалистических движений в публичной сфере. Куда они, действительно, выплеснулись отчасти из практик, распространенных в малообразованных слоях населения. Но то, что эти движения встретили так мало сопротивления, в этом журналы для ИТР сыграли свою роль, хотя во многом и невольно.
Мимо цели? История как миф и идеология
— Понятно. Теперь более важный вопрос: в конце статьи вы выдвигаете откровенно политическую гипотезу: российской интеллигенцией был сделан выбор не в пользу психологической проработки травматического опыта недавней истории, а в пользу опрокидывания истории в далекое, героическое и «чудесное» прошлое, «этруски — это русские» и так далее.
— Да. Чрезвычайно важным делом в 1950-60-е годы было то, что по-немецки называется Vergangenheitsbewältigung, проработка прошлого — понимание того, что произошло с человеком в результате массовых репрессий, Гражданской войны, Второй мировой войны, Голодомора, вообще во времена правления Сталина. Здесь было важно сделать две вещи. Во-первых, назвать тех людей, которые непосредственно осуществляли репрессии. В 1950-е годы ответственность была возложена лично на Сталина и нескольких его сподвижников; например, из Союза писателей за погромные статьи были исключены всего пара человек.
С другой стороны, не менее важно было понять, что произошло с людьми и какие средства могут излечить их от многолетнего стресса, от страха, от неумения общаться между собой. Психоаналитики, например Мария Тимофеева, говорят, что до сих пор в снах пациентов встречаются страхи, которые транслировались через два-три поколения, от дедов и прадедов, переживших сталинизм.
Но такая проблематика стала предметом изучения только в самое недавнее время, а в 1960-е годы инструментарий для независимого анализа общества и самосознания только вырабатывался, и умнейшим людям требовалось много усилий, чтобы освободиться от очень схематического марксистского языка. Достаточно прочитать сегодня нашумевший доклад Григория Померанца 1965 года «О роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива». Потом Григорий Соломонович не перепечатывал этот текст, считая его устаревшим.
— А как же исторически-материалистический анализ исторических процессов?!
— Любая попытка серьезного продолжения марксизма в СССР навлекала на человека, который это делал, серьезнейшие неприятности. Действительно, нетривиально мыслившие философы и историки-марксисты в 1960-70-е годы либо оказывались на положении диссидентов и «еретиков», либо проявляли такие чудеса интеллектуальной эквилибристики, что сейчас их работы совершенно невозможно читать, насколько они пронизаны сложными, по-своему блестящими, но совершенно невразумительными формулировками.
Марксизм существовал либо как дискурс власти, такие ритуальные побрякушки, либо приносил большие проблемы (когда его пытались применить в качестве метода). Об этом писал Михаил Гаспаров в статье «Лотман и марксизм».
Так вот, запрос на древнюю историю как манифестацию «странного мира» к настоящему времени расслоился — зеркало разбилось на много кусочков. Один из этих уровней — это увлечение, причем в основном среди людей с естественнонаучными интересами, теориями Фоменко и Носовского, которые утверждают, что в прошлом все было не так, как мы думаем. Но мода на этих авторов, кажется, уже проходит.
Второй вариант — увлечение ряда людей из политического истеблишмента (например, действующего министра культуры) поиском в прошлом точных «прообразов» современной политической ситуации России — в той интерпретации, которые ей дают государственные медиа.
Вместо исторической полемики наступает царство whataboutery — так по-английски называется риторическая стратегия, когда в ответ на замечание чужака, иностранного оппонента следует ответ в духе «а у вас негров линчуют».
Таким образом, история тоже оказывается иррациональной, царством игры и силы. Но в отличие от 1960-х годов, когда в нее бежали как в менее идеологически окрашенную сферу, сейчас любая история оказывается проекцией современности. Улицы заполнены постерами, плакатами, с текстами типа «Русские побеждали хазар 1045 лет назад и китайцев 7500 лет назад!». Это пишет Русское общественное движение «Возрождение. Золотой век», организация вполне маргинальная, но плакаты-то висели по всей Москве.
— Мне кажется, популярность всякого рода конспирологических, оккультных вещей сейчас связана с тем, что люди чувствуют хрупкость своего социального бытия и слабость доступных им инструментов воздействия на окружающую их экономическую реальность. Эта такая рационализация ощущения «все решают за нас и без нас». В чем-то же это повторяет позднесоветскую ситуацию?
— Нет, не повторяет. Восходит к ней, истоки в самом деле лежат в 1960-70-х, но не повторяет. Тогда древняя история была одним из «интересных» феноменов в ряду целого ряда других, от реальных, как, например, достижения в области искусственного интеллекта или экспериментов с измененными состояниями сознания (о них писали в журнале «Знание – сила») до мифологических, вроде палеоконтакта.
Сегодня же мифологизированная история, в том числе и самого ближайшего времени, стала поистине наваждением для российского общества. Большую роль играет идея реконструкторства, в том числе осуществляемого на государственном уровне, как об этом пишет антрополог Сергей Ушакин. Такой навязчивой «игры в прошлое» в 1960-70-е не было. Сейчас исторические мифы приобрели самодовлеющее значение.
— И фантазии на тему будущего уже не настолько интересны?
— Да, социальные исследователи уже довольно давно говорят: нынешнее российское общество не то, чтобы не думает о будущем, а не имеет инструментов, чтобы придумывать будущее.
— А класс ИТР, который является героем вашего исследования, он сейчас существует?
— В том виде, в котором он существовал в 1960—70-е годы, нет. Хотя физически эти люди живы. Кто-то ушел в бизнес, кто-то остался в той же профессии, кто-то обеднел до нищеты. Но профессионалы в области сложной техники и высокой технологии уже не составляют такой автономной группы.
Создана эта группа была в рамках военно-технического соревнования с США. Очень многие ИТР не работали на это соревнование, даже некоторые студенты технических вузов всеми силами уклонялись от распределения в закрытое конструкторское бюро («почтовый ящик»), но «гонка вооружений» служила легитимацией и задавала политические координаты существованию этой группы: советские высокие технологии создавались или копировались стратегически для того, чтобы СССР успешнее противостоял Западу, а не для улучшения, например, благосостояния общества. Эта цель была второ-, а то и третьестепенной.
— То есть современные аспиранты-инженеры…
— Это уже другая социальная группа, у которой пока нет своего названия. Есть «креативный класс», но попытку ввести это название в 2011—2012 годах я считаю политтехнологической манипуляцией, которая, к счастью, не удалась.
— Я слушаю вас, и у меня возникает вопрос о методе. Вы очень свободно переходите от литературоведения к историко-социологическим и даже чисто социологическим гипотезам. Как это работает? Каковы границы вашего подхода?
— Мое исследование — и не только мое, целого ряда современных гуманитариев — является полиметодическим. Я должен очень четко понимать границы своих методов. Помните, Остап Бендер в начале «Двенадцати стульев» продавал на базаре астролябию со словами «Сама меряет, было бы что мерять!». Это очень хорошее описание методологического империализма, когда один метод годен для всего. Для меня, наоборот, важно понимать, какой метод для каких феноменов годится. Я, если схематически говорить, изучаю диспозитивы. Джорджио Агамбен определяет диспозитив как «гетерогенный ансамбль, … виртуально включающий в себя … дискурсы, институты, здания, законы, полицейские меры, философские утверждения и т. д. Сам по себе диспозитив является сетью, образующейся между этими элементами. … Диспозитив… произведен пересечением отношений власти и отношений знания».
Но меня интересуют еще и пересечения отношений знания и анти-власти, сопротивления, как и гуманитариев 1960-х годов, которые создали всю эту парадигму. Само слово «диспозитив» придумал Мишель Фуко. Я тут совершенно не исключение. Сегодня исследование в гуманитарных науках организовано так, что многим приходится в работе сочетать теоретико-культурный, социологический, исторический и филологический инструментарий. Но это накладывает очень большую ответственность: каждым из этих инструментариев нужно владеть так, чтобы быть убедительным для более узких и глубоко мыслящих специалистов из соответствующих областей.
Мне кажется, трансформация общественного сознания, глубинные процессы в обществе могут быть изучены только как система процессов, разворачивающихся в нескольких контекстах одновременно. В литературе мы видим, как действуют некоторые очень тонкие механизмы перенастройки сознания, проецирования будущего. Может быть, поэтому некоторые процессы лучше всего изучать именно на материале литературы и так, чтобы все время удерживать в фокусе внимания ее эстетическую специфику, понимать ее не только как часть диспозитива, но и как искусство, у которого есть свои задачи.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.