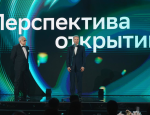— Михаил, вы и ваши коллеги занимаетесь политической социологией российских университетов. Что это вообще такое и что интересного вы выяснили?
— Есть много подходов к изучению организаций. Один из них, который стал очень популярен в 1960-е годы, рассматривает организации как государство в миниатюре или, наоборот, государства как разновидность организаций, только очень больших. Университет, рассмотренный политически, — это конгломерат разных групп интересов, заключенных в рамки формальной политической структуры. Этими группами интересов являются, например, студенты, профессора, администрация, поделенные на субкультуры. Все они стараются куда-то направить организацию. Одни студенты хотят денег на КВН и на спортивный зал, вторые хотят лаборатории и книги в библиотеку. Одни профессора хотят, чтобы их оставили в покое, пока они пишут свои великие научные статьи, а другие хотят, чтобы те подключились к преподаванию и взяли на себя часть администрирования. Кто из них чего сможет добиться, определяется отчасти формальной политической рамкой, отчасти «властью выхода», теми ресурсами, экономическими и символическими, которые они могут угрожать унести с собой. И это все как раз предмет политического изучения организаций. Впервые этот подход было опробован применительно к американскому университету на волне студенческой революции, и с тех пор под этим углом изучали университеты во Франции, Британии и еще много где.
— Что такой подход дает нам, в России?
— Например, он позволяет объяснить, в чем разница между университетским управлением в разных странах и почему простая калька американских структур управления, которая происходит сейчас, не приведет к появлению похожего внутриорганизационного политического режима.
Мы с моими коллегами придумали простую типологию, которая располагает вузы по двум измерениям: менеджериальности-коллегиальности и массовости участия в управлении. Менеджериальность-коллегиальность (также бюрократичность-демократичность) соответствует тому, кому подотчетны администраторы. Это измерение мы считываем по формальной рамке, регулирующей, кто кого назначает. Здесь есть два полярных типа: учреждение, где всех их назначают сверху вниз, и товарищество, где всех избирает непосредственный электорат (обычно преподаватели). Нужно понимать, что, помимо формальной рамки, есть те, кто реально участвует в управлении. При идентичном наборе полномочий внутриорганизационные политические режимы могут принципиально различаться по тому, кто и как пользуется имеющимися полномочиями.
Это дает нам второе измерение, которое соответствует доле людей, фактически участвующих в управлении, в первую очередь преподавателей-неадминистраторов. В сочетании с первым измерением мы получаем четыре типа, которые мы назвали «советскими республиками» (демократическими с широким участием), «патриархальными демократиями» (демократическими с низким участием), «совещательными авторитаризмами» (менеджериальными с высоким участием) и «предпринимательскими автократиями» (менеджериальные с низким участием).
В «советских республиках» все всех выбирают: кафедра выбирает заведующего, факультет — декана, университет в целом — ректора, и на каждом уровне соответствующий коллегиальный орган исполняет роль постоянно действующей законодательной власти, а избранный администратор — подотчетной ей исполнительной. В «предпринимательских автократиях» есть цепочка, идущая сверху вниз: ректор назначает деканов, деканы — завкафедрами, те отбирают своих подчиненных, а затем этими подчиненными командуют. В «патриархальных демократиях» руководство избирается, но затем никакого низового участия в управлении, помимо периодических голосований, нет. Администрирование осуществляется избранными администраторами как часть их должностных обязанностей за специальную плату. Наконец, в «совещательных авторитаризмах» голосований нет, но участие, на правах совещательных органов, очень широкое.
В СССР действовала предельно менеджериальная система, в которой ректора назначало профильное министерство. В 91-м году на волне общей выборности и демократизации в государственных вузах появляется система, в которой ректор становится слугой коллектива. Ректора выбирают на конференции работников, деканов выбирают факультеты. Ректор уже не очень влиятельная фигура по сравнению с ученым советом, который тоже выбирает конференция. Номинально учредитель (профильное министерство, так как СССР оставил нам в наследство систему, в которой учредителем является профильное министерство) утверждает ректора на коллегии. На самом же деле, судя по всему, контроль перешел целиком и полностью в руки коллектива, ибо министерства вмешивались по минимуму или фактически вообще не вмешивались. На протяжении десятилетий случаев, когда министерство отказало бы кандидату, который был избран внутри на конференции, единицы. Мы с моими коллегами по Центру институционального анализа науки и образования проанализировали эволюцию университетских уставов, которые действовали с конца 90-х до 2015 года. Так вот, среди других вещей можно обнаружить, что в ранних 2000-х некоторые вузы в своих уставах прописывали возможность преодолеть вето министерства.
— Вы говорите о крайне демократической системе, хотя, по-моему, вузы сейчас такими больше не являются. Говорят скорее о власти высшего руководства в виде ректора, деканов и так далее.
— Да, и эта волна преобразований, которая началась недавно. Их можно описать как движение к более распространенной менеджериальной модели высшего образования, или модели учреждения, потому что случаи, когда ректора или высшего администратора в университете выбирают преподаватели, встречаются в мире довольно редко. Это, скажем, Кембридж и Оксфорд — они оба управляются таким образом, традиционно конгрегация избирает высшие лица.
Гораздо более широко распространена модель, когда ректора назначает учредитель, которым выступает государственное ведомство (тогда университет встроен в систему государственного управления), религиозная конгрегация, бизнес-корпорация или локальное сообщество в лице совета попечителей. Но он не является коллегиальной структурой, такой «республикой ученых», то есть полностью самоуправляющимся сообществом или товариществом.
— Но исторически университеты возникли именно как то, что вы называете товариществами? Скажем, средневековый Парижский университет.
— Да, и скорее даже Болонский был классическим примером за тем исключением, что его создали студенты. Болонья была объединением студентов во главе с ректором-студентом, которые на сдельной основе нанимали профессоров и, как рассказывают историки, всячески этих профессоров третировали: давали им темы лекций и подсматривали по вечерам в окна, чтобы профессора готовились к лекциям.
Надо думать, образование было очень эффективным, хотя иногда профессора отчислялись в середине семестра и сбегали, не выдержав нагрузки. Оксфорд и Кембридж были примерно такими же, только с теологией в качестве главного предмета. Парижский университет был, видимо, слегка другим, потому что был теснее встроен в католическую церковь. Он не был совсем уж товариществом. В принципе, для средневекового университета было типично думать о себе как о гильдии, о цехе, внутри обеспечивая, по сути, социальную политику, ведь никакой помощи от государства, естественно, не было. Потому что и государства в современном смысле не было. Социальная политика была своя же, корпоративная. И жил университет, управляя сам собой. Они как раз, видимо, были близки к «советским республикам» в нашей терминологии. Сейчас в академической мифологии принято считать это состояние идеальным, хотя исторически существовавшие университеты-гильдии имели много темных сторон.
Собственно, Гумбольдтовская революция, которая якобы изобрела академические свободы, на самом деле некоторые из них даровала, а некоторые — упразднила. Она упразднила право гильдии избирать свое начальство, потому что теперь ректоров университетов назначало министерство просвещения. Она избавила отдельного профессора от необходимости получать одобрение других профессоров для того, чтобы читать какие-то лекции. До этого сообщество следило за тем, чему учит каждый, и было в этом смысле частенько довольно авторитарным.
Если мы посмотрим на уставы российских императорских университетов начала XIX века, то мы обнаружим прямой запрет на то, чтобы преподавать предмет сообразно собственному разумению. Профессор должен читать курс по учебнику или конспекту, который одобрили его коллеги и чиновники, ни в коем случае от них не отступая. Так вот, Гумбольдт дал профессорам свободу учить — по собственному разумению излагать предмет. Но та же реформа закрепила за университетами статус государственного учреждения, не товарищества. В целом, с тех пор доля университетов-товариществ идет на спад, потому что новая модель вытесняет старую даже там, где старая была прежде широко распространена. Где-то, конечно, университета-гильдии никогда не существовало. Скажем, американский университет всегда строился как учреждение, то есть исходно это был комитет попечителей, представляющий локальное сообщество, который нанимал президента, а тот нанимал некоторое количество молодых преподавателей и делал с ними все, что хотел. Преподаватели обычно были молодыми людьми, параллельно ищущими места священника. На работе этой долго не задерживались. Гарвард исходно был организован так, но со временем он скорее терял черты предпринимательской автократии, становясь тем, что мы назвали «совещательным авторитаризмом».
В истории российских университетов было больше крутых поворотов, чем в большинстве других стран. Первый университетский устав, Московского университета 1755 года, был во многом калькой с устава германского университета-гильдии. Потом маятник качнулся в сторону учреждения с последующими колебаниями на протяжении XIX века (менее либеральный устав 1835 года, более либеральный 1863-го, опять менее — 1884-го). Потом, во время революций начала ХХ века, маятник качнулся было в сторону товарищества. Потом качнулся назад — до предельно учрежденческого типового сталинского устава, в котором вуз устроен как завод, ректор назначается, деканы назначаются, коллегиальные выборные органы никакой роли не играют.
Потом был чуть менее менеджериальный хрущевский типовой устав 61-го года, который более-менее действовал до перестройки. Потом, после 1991 года, маятник качнулся в сторону товарищества очень сильно, и после модели, в которой университет действительно был учреждением, где министерство назначало ректора, перешел к модели, где коллектив выбирал всех, став своего рода суверенным государством. В этом смысле российский эксперимент важен и интересен, он позволяет понять, что изменяется в поведении организации, когда она изменяется в одну сторону и когда она возвращается назад.
Что происходит, когда она возвращается назад, мы видим прямо сейчас. Удивительная вещь заключается в том, что изменяется относительно мало и совершенно не то, что планировалось изменить. Есть некая стихийно складывающаяся система управления, которая сначала делала достаточно декоративными демократические формы, а потом и менеджериальные формы университета как учреждения в той же степени декоративными.
— Интересно! Но в чем декоративность? Кто принимает решения?
— Тут как раз сказывается вторая часть уравнения: не кто имеет полномочия, а кто хочет и может ими воспользоваться. После институциональной революции 90-х стихийно сложилась система, главная внутренняя логика которой состояла в том, чтобы минимизировать время препсостава, затраченное на управление, и количество людей, вовлеченных в принятие решений.
Вот, например, поиск новых преподавателей. На кафедре появляется вакансия. Кто отвечает за поиск нового преподавателя?
— Завкафедрой.
— Точно! А если мы возьмем американский университет, там все будет устроено так. Допустим, на департаменте (кафедре) социологии освободилась вакансия. Департамент создал комиссию, которая разослала открытое объявление по каналам Американской социологической ассоциации, подождала, пока две сотни кандидатов (если это хорошая вакансия, не меньше) подали заявления, потом этот комитет отобрал кандидатов, представил своему департаменту, департамент выбрал трех, кто может приехать с пробными лекциями, заслушал их и передал свои рекомендации декану или руководителю школы. Руководитель школы изучил их, добавил свои рекомендации и отправил «наверх», в общеуниверситетский комитет по персоналу, который, наконец, отправил свои рекомендации ректору, а после ректора попечители утвердили кандидата. Это еще упрощенная схема, обычно все сложнее. Причем ситуация, когда верхние три финалиста поменялись местами где-то в этом процессе, абсолютно реальна. Или кто-то в этой цепочке нашел результат неудовлетворительным и постановил объявить конкурс заново. Процесс вовсе не автоматический.
Понятно, что это чертова куча времени. Найм может длиться год или два года. Участвует очень много людей, имеющих пересекающиеся компетенции, спорящих друг с другом. Понятно, что эта система работает только с пожизненным наймом, потому что каждый год так выбирать людей невозможно. Слишком много сил и времени на это уходит. Старший американский профессор может заниматься наймом до 20% рабочего времени.
— Только наймом? Не другими административными вопросами?
— Да. Только поиск, найм коллег. Огромный расход времени. Даже если эта цифра нетипична, это все равно много. А в российской системе заведующий кафедрой, скорее всего, присмотрит способного студента, уговорит его поступить в аспирантуру, устроит ассистентом на четверть или на половину ставки, объявив под него конкурс, потом поможет стать доцентом, защитив диссертацию. И так далее, пока студент не станет завкафедрой.
Чем поражает российская система? Тем, что реально в этом выборе участвует один человек. Необязательно при этом, что кандидат выращивается, хотя это традиционно считается идеальной моделью — прошел весь путь от студента до ректора в одном вузе. Если город большой, например Москва или Санкт-Петербург, можно ходить по конференциям и защитам, присматривать молодых и способных на чужих факультетах и переманивать.
Каким бы ни был механизм найма, главный контраст создает то, что за ним стоит один человек. Преподаватели кафедры в этом обычно не участвует. Иногда кто-то лоббирует своего протеже. В интервью, которые мы брали, люди иногда говорят что-то вроде «Сходила на конференцию, присмотрела очень способную девочку, порекомендовала заведующей кафедрой, она тоже присмотрелась — понравилась, взяли».
Такие истории бывают и в США, но в принципе участие преподавателей минимально. Более того, после того как завкафедрой представил избранника или избранницу кафедре, там обычно голосуют более-менее единогласно. Дальше избранник или избранница переправляется на совет факультета, потом — в ученый совет университета, но на этом уровне смотрят фактически на базовое соответствие: если кандидат наук подается на профессора, это вызывает вопросы, не рановато ли. Если подобного несоответствия нет, то более-менее штампуют принятое решение. Один человек проделывает всю работу. Количество человеко-часов, которые тратятся на этот найм, гораздо меньше.
— То есть российская система чудесным образом была более эффективной, более быстрой…
— Да, в некотором управленческом смысле она, безусловно, является оптимальной. Когда мы смотрим на устройство российского университета, кажется, что он со всех сторон тяготел к тому, чтобы создать простую структуру, с ясными зонами ответственности и минимальными трудорасходами на управление университетом. Такой интересный общий знаменатель.
Так будет со всем. Завкафедрой организует учебный план, заведует кадрами и даже руководит научной жизнью: издает сборники, собирает секции конференций. Факультет занимается своими делами, например, организует жизнь студентов и пытается поднять конкурс по специальности. Есть какая-то зона, которая остается персональной «вотчиной» ректора, туда никто не заглядывает. Все рады, что проблемы хоть как-то решаются, и не задаются вопросом, а нельзя ли решать их эффективнее. Ректор тоже не лезет ни в чьи дела.
Иногда центральная власть выступала как некий третейский судья, если нужно было искать компромисс, но она мало чем ведала, кроме того, чем не ведали остальные. Это, повторяю, была очень гармоничная система. Принятие решений вроде бы везде было единоличным, но при этом учитывались интересы нижестоящих. Завкафедрой подбирал персонал, раздавал нагрузку, мог создать невыносимые условия для кого-то из преподавателей, если хотел, но не мог обидеть сразу всех преподавателей, потому что они подготовили бы переворот во время перевыборов и свергли бы его. Аналогично ректор мог много чего сделать с общеуниверситетским имуществом, но на это смотрели сквозь пальцы, пока ректор не обижал факультет. Если ректор обидел много факультетов сразу, то, скорее всего, конференция сказала бы «нет» ректору.
Тот политический режим, который был характерен для российских университетов, мы с моими коллегами назвали «патриархальной демократией», потому что все должностные лица выбираются и отвечают перед своим электоратом, однако, будучи выбранными, они получают в свои руки полномочия обустраивать дела в своей вотчине и обычно правят ей в довольно патриархальной или матриахальной манере: заботятся о своих людях, как умеют, а те ни в чем не участвуют.
— Вы говорите об этом в прошлом времени?
— Да. Потому что это прекрасная и гармоничная система была совершенно дисфункциональной с точки зрения людей, которые оценивали качество образования по шансам на вхождение университетов в мировые рейтинги, и, когда они получили рычаги, чтобы реформировать ее, они сразу попытались ее уничтожить. Вся эта система прекрасно работала на рост за счет увеличения числа студентов. Кафедра или факультет проявляли инициативу, открывали новые программы, привлекали студентов и получали большую часть того, что на них удавалось заработать. Система не была ориентирована на качество преподавания, потому что если начать следить за качеством получаемого образования, то количество студентов резко снизится. И она совсем не предусматривала механизмов, которые бы поддерживали развитие университетской науки. Не то чтобы кто-то кому-то мешал заниматься наукой, нет, в ней никто особо никому не мешал, но средства распределялись так, что никакой концентрации их на наиболее перспективных направлениях нельзя было ожидать.
Еще одно действие демократического механизма: любые деньги, направленные сверху и попавшие в поле зрения ученого совета, делятся им строго пропорционально. Когда приходят деньги на научно-исследовательскую работу, что с ними происходило традиционно? Ученый совет делил их пропорционально количеству сотрудников на факультетах и спускал на факультеты. Факультет спускал на кафедры, на кафедрах они делились, превращаясь, по сути, в бонусы к зарплате. На каждой кафедре заведующий получал больше всего, и так до последнего ассистента. Если у вуза был институт, унаследованный от советских времен, в нем могли получить из этих средств больше, жалуясь на то, что у них нет никакой другой зарплаты, а им надо выживать. В принципе, это было некое общее, совершенно пропорциональное деление, в своем роде очень справедливое, но по понятным причинам не сильно вдохновлявшее людей, которые давали деньги, надеясь получить прорывные исследования.
— Всем дадим по пять копеек, понятно.
— Да. И это демократическая система, либеральные политэкономы, может быть, будут утверждать, что это неотъемлемая черта демократии, демократия делит все поровну, не поощряет сильных, она повышает налоги, демотивируя таким образом предпринимательскую инициативу, потому что я делюсь тем, что я произвел с большим количеством других людей. А единственный способ запустить экономику — понизить налоги, для чего, продолжая эту линию размышлений, в некотором роде желательно, чтобы демократии тоже было поменьше. Потому что, как только масса людей начинает голосовать, она голосует за повышение налогов на богатых и перераспределение.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.