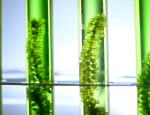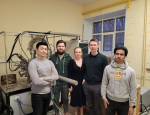— Расскажите, чем занимается Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»? Какие основные направления, исследования, разработки?
— В России есть два национальных исследовательских центра, которые созданы отдельными законами. Это Курчатовский институт и мы. Юридически наш центр — Федеральное государственное бюджетное учреждение, которому переданы в собственность основные институты авиационной промышленности. Во всех институтах работает 12,5 тысячи человек, общий бюджет составляет примерно 15–16 миллиардов рублей в год.
Проект по созданию центра родился около шести лет назад. Идея заключается в том, чтобы выстроить новую систему управления прикладными исследованиями с акцентом на формирование опережающего научно-технического задела. Авиастроение в данном случае выступает первопроходцем. Много времени и усилий заняла подготовка документов, но все-таки закон в 2014 году был принят. К сожалению, он значительно отличается от закона о Курчатовском институте в части имеющихся у центра полномочий.
На практике мы столкнулись с тем, что многие критические проблемы невозможно решить изнутри. Они системные и напрямую увязаны с тем, как государство управляет научной и инновационной сферой в целом и прикладной наукой в частности. Ведь это именно то связующее звено, которое обеспечивает реализацию всех фундаментальных исследований в интересах промышленности.
Начнем с того, что фундаментальные, поисковые и прикладные исследования часто смешивают и перечисляют через запятую. С точки зрения системы управления как науки это совершенно разные вещи. Они должны по-разному планироваться, управляться и оцениваться.
Получение знаний, на которые прежде всего ориентирована фундаментальная наука, это вещь глобальная и с очень большим горизонтом планирования — 50 лет и больше. Фундаментальные исследования трудно прогнозировать по времени. Все зависит от очень большого количества факторов, вплоть до роли отдельного ученого. Это в какой-то степени турбулентный процесс. Прикладная наука — это про время и конкретные технологии. Чем быстрее ты сможешь имеющиеся знания реализовать в технологии, готовые к промышленному производству, тем больше времени ты на рынке выиграл. И горизонт планирования отдельных исследований здесь максимум пять-семь лет.
— В вашей отрасли?
Другой пример — Япония. Там такая реорганизация закончена в начале 2000-х. Они четко позиционируют, что фундаментальные исследования — это те исследования, направление которых формируется «снизу вверх». То есть собирается научное сообщество, которое определяет цели, задачи и центры компетенций. И по этим центрам компетенций происходит финансирование и развитие фундаментальных исследований.
Существует разграничение: все это относится к работам, результаты которых будут получены более чем через семь лет. Планирование же прикладных НИР ведется «сверху вниз», потому как результат должен быть получен в жестко заданные сроки. Создан Национальный институт передовой промышленной науки и технологий, AIST, который разрабатывает технологии в интересах всей высокотехнологической промышленности, включая авиастроение. Так они добились реализации междисциплинарных и межотраслевых подходов в управлении.
Прикладная наука ориентируется на промышленность. А промышленность заинтересована в уменьшении сроков опытно-конструкторских работ и скорейшем начале серийного производства. Для этого к моменту, когда принято решение создать конкретный самолет или вертолет, должна быть готова не одна-две технологии, а вся совокупность.
Соответственно, прогнозирование, планирование научно-исследовательских работ должно идти сверху вниз. То есть, это уже директива. Как эта директива образуется? Базовая вещь — это технологическое прогнозирование. Каждый знает, что есть требования рынка, это спрос на технологии, а есть возможность развития технологий. Она во многом зависит от времени.
Сейчас много говорится о композитных материалах, но на самом деле они не товар. Товар — это конструкция из композитных материалов. В принципе, конечному потребителю все равно, из чего сделан самолет, но прочность должна быть такая, чтобы он мог безопасно летать.
Фундаментальная наука может придумать новое химическое соединение, но дальше нужно определить, можно ли его использовать в авиастроении, сделать конструкционный композитный материал, который будет иметь соответствующие прочностные характеристики. Потом создается конструкция, допустим, крыло. Прежде чем ставить его на самолет, надо посмотреть, как оно разрушается, спрогнозировать ресурс, определить методы диагностики. Для этого крыло привозят на прочностные стенды, обвешивают датчиками — дали нагрузку, сломали, записали. Выводятся тренды, создается теория разрушения и выдаются рекомендации промышленности. На прохождение этой цепочки уходят годы. Это и есть основная задача прикладной науки.
— Наша власть помогает эту конкурентоспособность наращивать?
— У многих коллег и среди чиновников, и среди ученых есть определенная инерция мышления и непонимание того, что нельзя обойтись полумерами. Тут подпорку поставим, там подпорку, но так не получится. Мы сегодня инициативно и упорно бьемся за то, чтобы был наведен системный порядок. Это же не только авиастроения касается. С момента распада СССР и ликвидации отраслевых министерств прикладная наука находится в подвешенном состоянии.
Мы проанализировали наше законодательство и выяснили, что за прикладную науку у нас вообще никто не отвечает. В функциональных обязанностях Минобрнауки этого нет, оно координирует фундаментальные и поисковые исследования. В положении Минпромторга это также не прописано, хотя финансирование авиационных НИР идет по линии этого министерства. О каком долгосрочном прогнозировании, планировании тогда можно говорить? Какие кадры необходимо готовить, какую экспериментальную базу делать? Как осуществлять межотраслевую интеграцию?
— Вы знаете, судя по общению с учеными, у нас и с фундаментальными исследованиями не очень.
Я отвечаю за прикладные исследования, поэтому я хотел бы сфокусироваться именно на них. Хотя подчеркну, что прикладные исследования без фундаментальных вообще не живут. А у нас как сейчас происходит? Все приходят и говорят: «Я сделаю высокотехнологичный продукт». Еще, как любят у нас добавлять, «аналогов не имеет». «Хорошо, на тебе деньги», — говорит государство. А когда начинают делать, то получить заявленные тактико-технические или эксплуатационные характеристики не удается. Потому что знаний нет, готовых к внедрению технологий нет, либо они «сырые». В итоге ОКРы длятся 10-15 лет, а это слишком долго, ниша для продукта закрывается, и все — мы выпадаем из рынка.
Весь мир идет по другому пути. Есть уровни готовности технологий (УГТ). Традиционно их выделяют девять. С первого по шестой идут НИРы, с шестого по девятый — ОКРы. На каждом этапе оценивается достигнутый результат, вносятся корректировки. Так вот решение о создании конкретного образца принимается только тогда, когда сформирован весь комплекс необходимых технологий, доведенных до шестого уровня готовности. Это те технологии, которые уже полностью отработаны, испытаны на демонстраторах. Учтены все взаимовлияния, плюсы и минусы. И понятно, что делать все это надо с опережением.
В плане реализации Стратегии научно-технологического развития написано, что надо создать такую новую систему управления наукой, технологиями и инновациями. Все развитые страны ее создали лет двадцать-тридцать назад, а мы только сейчас к этому пришли. Понятно, что был период упадка в 90-е. Но мы уже и так слишком долго запрягаем. Поэтому мы звоним во все колокола: слушайте, у нас вообще, в принципе нет целостной системы управления. Где у нас соответствующие регламенты, постановления Правительства, которые это все определяют, где эта цепочка от фундаментальных исследований до ОКРов, где все участники выстроены таким образом, что каждый заинтересован свои наработки передать дальше, где система принятия решений, определяющая, какие технологии надо развивать, а на какие не надо тратить деньги?
— Вы упомянули о Стратегии научно-технологического развития. Еще у нас из каждого утюга рассказывают про НТИ, АСИ. На ваш взгляд, все эти инициативы, в том числе законодательные, что-то меняют?
— Я надеюсь. Принятие Стратегии — это однозначно шаг вперед, это первая попытка выбрать национальные приоритеты. Президент задал важный политический вектор, но надо идти дальше, а это требует сложных реорганизационных мер и, самое главное, регламентных документов. Важно, чтобы сила воли была их создавать.
Важно, чтобы любой ученый понимал, что у него здесь все расписано, и он на это имеет право, а здесь он должен доказать свою правоту. Если он ее доказал, все, дальше он занимается наукой, а не бегает и клянчит деньги. Ему предоставляется финансирование, но через какое-то время он обязан выдать результат.
— В СНТР идет речь о «больших вызовах», расскажите про вызовы для авиационной отрасли.
— Мы как раз недавно выпустили книгу, в которой предложили свой подход к систематизации вызовов для авиации. Потому что «большие вызовы», которые перечислены в Стратегии, необходимо дальше декомпозировать для каждой отрасли. Для России ключевым вызовом является обеспечение транспортной доступности и связности страны. У нас на 60% территории у воздушного транспорта нет альтернативы.
Опять же приведу пример США. У них есть глобальные индикативы. Они, например, ставят себе целью, чтобы к 2030 году 30% населения имело возможность летать на работу на самолете. А что это означает на практике? Это означает, что не должно быть таких «уголков», которые были бы недосягаемы или неудобны для жизни конкретного гражданина. Для этого нужно огромное количество аэропортов и самолетов, ведь, если человек едет на работу, он не должен опаздывать. Они допускают пятиминутное отклонение рейса от графика, не больше. Это очень жесткое требование, требующее огромных затрат по системе управления воздушным движением. При этом если такое огромное количество самолетов находится в воздухе, то будут колоссальные требования к безопасности полетов. Но при этом такое количество самолетов позволяет снизить расходы государства, например, на спутники. Потому что самолеты берут на себя функции ретрансляторов сигналов. Более того, просчитывается даже то, какие объекты должны быть у человека на пути из аэропорта до дома, вплоть до супермаркетов. Так на вызовы отвечают в США.
Теперь про нас. Прежде всего необходимо определиться с тем, какая транспортная система нам нужна. У нас огромная страна, и с точки зрения экономики это большая проблема. Президент поставил задачу по развитию Дальнего Востока. Для его развития надо прежде всего решить транспортную проблему, чтобы максимально большое количество граждан могло себе позволить туда добраться. Это вопрос доступности транспортных услуг. В свое время в Иране (у них железных дорог очень мало, это основная проблема, и она продолжает таковой оставаться) ввели дотацию. 20 долларов стоил любой билет на любой рейс внутри страны. Они обеспечили таким образом единство нации. Соответственно, у нас должна быть такая транспортная система, которая окутает своей сетью регионы, даст импульс для развития удаленных и малонаселенных территорий. При этом автомобильные и железные дороги, авиация, водный транспорт — все должно быть увязано в единую систему. Только когда есть понимание по всей системе, тогда только можно определить, какой вид техники нужно сделать, чтобы он был доступным, безопасным, эффективным и экологичным.
В мире есть очень интересные тренды, например, в США каждый год сокращается сеть железных дорог. Поскольку экономика меняется, развивается мелкий и средний бизнес, то оптимизируется и транспортная система. Если у вас в компании работают 30-50 человек, вам железная дорога не интересна. Она интересна для крупных предприятий, которые перевозят руду составами, перегоняют нефтехимические цистерны.
Мы достаточно подробно занимаемся анализом транспортной системы, прежде всего авиационной составляющей, пытаемся спрогнозировать, какая техника нужна для России. Не факт, что следует опираться на европейские требования к авиационной технике. У них, например, сильно загружено воздушное пространство, очень плотный трафик. У нас такой проблемы нет, но есть другие, на которых необходимо сконцентрироваться. И вызов в том, чтобы для начала завоевать свой рынок, а потом уже такие подходы тиражировать и предлагать другим странам. И мы считаем, что наш вызов — это прежде всего создание современной транспортной системы и помощь конструкторам в создании техники, которая бы максимально обеспечила потребность страны в высокой мобильности. Это наша задача.
— Есть ли еще что-то такое, что вам предстоит решить в рамках этих «больших вызовов», специфичное именно для России?
И это еще один «большой вызов» для России. Потому что если мы можем решить проблему связности территорий и транспортной доступности, о которой я говорил, с помощью существующих технологий и наработок, то, чтобы стать глобальным игроком, нужно развивать принципиально новые технологии и искать прорывные решения. Наши расчеты показывают, что только в том случае, если мы обеспечим преимущество перед конкурентами на 15-20%, то сможем претендовать на серьезную долю на международном рынке и обеспечить большую серийность. Поэтому при такой постановке вопроса для фундаментальной науки поле непаханое. А тем более для прикладной.
— И как у нас сейчас в стране с развитием этих технологий?
— Я бы так сказал, что мы пока делаем только первые шаги. На авиасалоне МАКС летом этого года мы показывали макет электрического двигателя, созданного с использованием эффекта сверхпроводимости в сотрудничестве с компанией «СуперОкс». Это как раз прообраз двигателя для авиации будущего. Одних наших усилий недостаточно — нужна целенаправленная государственная политика. Важнейшая государственная функция — это управление технологиями, а не просто распределение средств.
— То есть, на ваш взгляд, вся фундаментальная часть должна быть на попечении государства? Сейчас власть поддерживает науку и призывает бизнес заняться тем же. И многие ученые жалуются, что наш бизнес в них совсем не заинтересован. И когда они предлагают новые разработки, бизнес отвечает: «Мы тут массовым производством занимаемся, а у вас даже МИПа нет». И на этом все заканчивается.
— Вот в этом и есть проблема. Только добавлю, что не только фундаментальная часть, но и прикладная. Потому что риски очень высоки — это раз. Во-вторых, кто будет содержать огромную экспериментальную базу? Именно государство должно брать на себя этот груз. Но брать осмысленно, с учетом национальных интересов и тех же «глобальных вызовов». Для промышленности это своего рода субсидия, которая не противоречит требованиям Всемирной торговой организации (ВТО), потому что государственное финансирование фундаментальных, поисковых, прикладных НИРов в рамках правил ВТО допускается.
А вот когда речь идет об ОКРах, то это уже нарушение конкуренции. Boeing и Airbus постоянно пытаются подловить друг друга на этом. Есть хрестоматийный пример, как в Германии в рамках реконструкции аэродрома в Гамбурге построили взлетно-посадочную полосу длиннее, чем положено, потратив на это федеральные деньги. Это было нужно для испытаний новых моделей самолетов. В итоге Boeing подал в суд: нарушение конкуренции. Это, может, для нас сейчас звучит непривычно, но, если мы хотим играть в глобальных условиях, надо понимать, с какими проблемами мы можем столкнуться.
Поэтому европейцы финансируют промышленность через науку. Но у них есть одна хитрость: они передают эту технологию промышленности, однако бизнес обязан локализовать ее на их территории. Если технология привязывается к территории, то растет производство, растет количество рабочих мест, налоговые поступления. Логика именно в этом: я создаю технологию, я привязываю ее к своей территории и тем самым повышаю конкурентоспособность своего государства.
И государство так же, как и промышленность, заинтересовано в большой серии, чтобы окупить вложения. А чтобы стимулировать процесс развития, ужесточаются требования по экологии, безопасности и так далее. Тогда производство тоже будет обновляться. Это и есть управление технологическим развитием.
Тот же Siemens без постоянной инновационной поддержки государства не выжил бы в этой конкурентной борьбе. Должна быть цепочка: ученый придумывает, но реализация — это не его задача. Это задача управления, продажи знаний, умения довести знания до уровня готовности технологий к промышленному внедрению. А у нас ученые придумали что-то, сделали опытный образец, а промышленности это не интересно. И пока у нас нет системы управления всем жизненным циклом, то это проблема будет возникать вновь и вновь.
Вопрос стыковки по времени здесь очень важен. Надо делать то, что нужно сейчас, в определенную дату. В Японии в этом смысле все директивно: они делают то, что нужно, не более семи лет. Еще раз говорю, что ученый должен иметь ту базу данных, те документы, по которым он четко понимает, что его продукция, его знания нужны в этот период времени. Поэтому в мире существуют такие организации, как NASA, как Общество Фраунгофера, Общество Макса Планка. Это их задача — позиционировать каждый центр компетенций, давать целеуказания ученым, что нужно делать в данный период времени. А кому-то, наоборот, надо сказать, что применения его идее нет.
Другой важный вопрос — вопрос кредитования и стимуляции. Есть очень неплохой европейский опыт, когда технологии патентуются следующим образом. Если технология создается на государственные деньги, то права на ее использование отходят к государству. При этом у ученого есть своя доля — 2, 3, 5 процентов, в зависимости от регламента. Если технология передается в бизнес, то он имеет свои дивиденды. Несколько успешных внедрений — и ученый становится очень обеспеченным человеком. При этом он заинтересован в том, чтобы эту технологию использовали лицензионно. Если кто-то использует ее без разрешения, он пишет жалобу. И государство юридически обеспечивает защиту. Это и есть пример частно-государственного партнерства в области науки между ученым и государством. При этом ученый выполняет функцию именно государства, он смотрит, чтобы эта технология была локализована на территории конкретного государства, где разрешено это делать. И с этого получает деньги. Вот некая модель, которая существует. Подобные модели должны появиться и у нас.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.