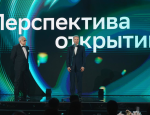«Ужас жизни подростка в том, что он ничего не может изменить»
— Тема подростковых самоубийств сейчас стала более чем актуальной из-за «синих китов», но и не только. Если отталкиваться от твоего клинического и преподавательского опыта, в чем состоит эта проблема в нашей стране?
— Сначала давай поговорим про суицид вообще. В нашем обществе есть история о том, что суицид — это про психические патологии. Если у человека есть желание самоубийства — сразу госпитализация, вот это все. Но на самом деле это не так. Любой суицидолог тебе это скажет: разговор о самоубийстве отвращает от самоубийства. Это вообще с любой проблемой работает. Если человек толстый и ходит в группу поддержки для толстых, он не станет от этого толще, он просто получит поддержку.
Если ты начинаешь рассказывать подростку, довольно цинично, все детали самоубийства (того или иного способа): как потом будет найдено тело, что будет происходить с его вещами, то это здорово отвращает. А обсуждение опыта тех, кто делал попытки, поддерживает это отвращение. Если мы рассказываем довольно цинично о способах, если мы даем пообщаться с теми, кто испытывает эти чувства по какой-либо причине...
Группы поддержки реально сейчас запрещены. Мало того: я не могу взять в терапию ни одного подростка младше 17, но не потому, что я в принципе не люблю работать с подростками, а потому что я просто рискую сесть.
— Я понимаю. Но я считаю, что суицид — это абсолютное зло и что государство должно делать все, чтобы суицидов не было. Вопрос в том, как…
— Этот номер не сработает. Во-первых, потому что это твоя аксиология, и никто, особенно подростки, не обязан твое мнение разделять. Если придет такой бородатый дядя и скажет, что суицид — это зло, дети скажут: «Иди ты, дядя, куда подальше, мы считаем, что это клево», и у тебя нет возможности доказать, что это не клево. Ты можешь сколько угодно говорить, что это плохой выбор, но ты не можешь отрицать, что есть люди, которые находятся в другой парадигме, ты не можешь лишить их свободы воли. Ты не можешь навязывать подросткам единую этическую систему. Но ты можешь говорить: а хорош ли для тебя этот выбор сейчас? Можешь ли ты сейчас адекватно сделать этот выбор? Ты не можешь решать, покупать тебе спиртное или нет, в какой школе учиться и за кого выходить замуж, так можешь ли ты решать, что сделать со своей жизнью?
На предполагаемых суицидентов-подростков идет бешеная травля. Я видела ситуации, когда подросток сидит на подоконнике в школе, просто сидит на подоконнике в школе, грустненько сидит, подбегает директор, хватает его за волосы и через всю школу тащит, при всех орет на него чуть ли не матом, засовывает головой под кран, потом вызывают родителей, им говорят, что он хотел покончить с собой. Просто потому, что он сидел на подоконнике с грустным видом. Если на человеке находят шрам, его начинают хватать и тащить... Если у человека мама находит на странице грустненькие цитаточки, человека чуть ли не к психиатру засовывают. Причем надо понимать: если у нас психиатрия в Москве более-менее пристойная, то в провинции бывают очень жесткие варианты. Там человека могут сразу загнать нейролептиками. Если бы он это мог обсудить, то через какое-то время, с огромной вероятностью, понял бы, что это ему не нужно.
Слушай, мы все в подростковом возрасте обсуждаем какие-то странные вещи, которые необязательно потом реализуем.
Ну, и как должна выглядеть профилактика самоубийства? Вы приходите и говорите: «Дети, суицид — это плохо». А дети тебе: «Слушайте, мы находимся в невыносимой ситуации, мы хотим, чтобы эта ситуация закончилась немедленно, а вы говорите, что с собой кончать нельзя. Вы нам оставляете выбор: или оставаться в невыносимой ситуации, которая никогда не закончится, или...»
— Почему они считают, что изменить невыносимую ситуацию нельзя? Если одноклассники издеваются, можно же перейти в другую школу, например.
— Нет, нельзя. Потому что родители против.
— А почему нельзя поговорить с родителями?
— Теоретически с родителями поговорить можно, но в большинстве случаев они не станут на сторону подростка. Кроме этого, изрядная доля проблем связана с насилием в семье.
— Нет, но у нас не крепостное право и не работорговля. Любой ад можно изменить.
— Это христианство так говорит, а они не обязаны быть христианами.
И ты, будучи психологом и взрослым, почти никогда ничего не можешь для него изменить.
Я тебе сейчас не буду всего того рассказывать, что родители делают с детьми. Плюс насилие может быть психологическое: когда тебе каждый день сообщают, что ты идиот, что ты никогда ничего не сможешь достичь, что ты шваль подзаборная, с этим почти невозможно жить, и это человек, от которого ты защититься почти не можешь, потому что ты его любишь. Если бы ты его не любил, то они встали бы и шли. Те, кто может отказаться от любви, встают и уходят и просто перестают от этого страдать. Папа в очередной раз какую-то чушь сказал, это папины проблемы, он мне больше никто.
— Слушай, но подростки с такими проблемами были всегда…
— И всегда была дикая статистика самоубийств. Почему она сейчас стала больше? Исчезли летальные угрозы. Давай с примерами, причем не страшными, а так, лайт-версия. Краснодарский край, деревня, семья без отца… Надо понимать, что мужская смерть для тех мест — дело совершенно обычное, в частности, потому что нормальная инициация (для аборигенов) — это посадка. И спиваются: к сорока не спившихся почти нет. Мать работает свинаркой, какое-то количество детей, старший мальчик. Он очень хочет поступить. Сдать ЕГЭ, чтобы поступить в институт: не куда-то в МГУ, а в простенький областной институт, стать то ли агрономом, то ли специалистом по тракторам. И потом вернуться в свое село, чтобы уже зарабатывать не те крохи, на которые даже жрать нечего, как его мать зарабатывает. А дальше учитель пытается мальчика не допустить до ЕГЭ.
— Почему?!
— Для статистики. Это известная вещь: если ты школьный директор, у тебя есть 10-й класс, там десять человек, ты уверен, что все напишут на тройки, все напишут на тройку, и ты молодец. А если у тебя есть Вася Иванов, и он, возможно, напишет на двойку, то Вася Иванов испортит тебе статистику — у тебя будет меньше денег, выговор, и снять с должности могут. Поэтому у нас довольно часто пытаются не допустить детей до ЕГЭ. Но в Москве довольно подкованные родители, и это не прокатывает. А там мать-свинарка, она, конечно, ходила и просила, но она много вещей не знает, например, что у нас ЕГЭ можно сдавать не от школы.
— А этот мальчик плохо учится?
— Ты представляешь, какого уровня там преподаватели? Это деревня в Краснодарском крае. Плюс он не может нормально учиться, потому что у него на уроки остается очень мало времени. Современная школьная программа предполагает, что человек занимается часа четыре-пять каждый день кроме школы, и при этом ему кто-то помогает. Ему никто не может помочь, и он делает домашнюю работу: дрова наколоть, курицу зарезать и ощипать и так далее. Потом надо понимать, что, поскольку это Краснодарский край, он уже вступил в казачью дружину, он православный, и ему там какие-то вещи объясняли.
Вроде уже порешалось, что берут на ЕГЭ, он идет на выпускной. Для тамошних ребят это одно и самых ярких событий в жизни — выпускной и свадьба, а дальше тяжелая и беспросветная жизнь. Он такой в костюме, с красной лентой, с девочкой, уже идут тусоваться. И тут к нему подходит учитель и говорит ему: «Вань, мы тебя все-таки не допускаем до ЕГЭ» — и отходит. Мальчик возвращается домой и кончает с собой.
Почему он пошел на это? Недопуск к ЕГЭ для него значит потерю чести и благополучия, он ввергает свою семью в нищету, по кодексу он должен защищать женщин: младших сестер и мать. Он теряет честь и достоинство, теряет шансы на достойную жизнь, минимально достойную жизнь не в нищете. То есть его ждут впереди 25 лет страданий, потому что он знает, что сопьется, потому что ты не можешь работать на холоде грузчиком и при этом не пить водку, ты не можешь приходить домой, не видеть еды и не напиваться в нули. Все мужики, которые не нашли нормальную работу, спиваются. Или нашли нормальную работу, или спились. Других вариантов он не видел. Варианта пойти к директору и наскандалить он тоже не видел. Он ни разу не видел успешных прошений — начальство всегда право, там реальный феодализм.
— То есть все время манят историями чудесного взлета?
— Да. Главное, что этот взлет действительно возможен, больше чем в XIX веке. И на самом деле этому парню нужен был нормальный консультант по образованию, который бы сказал: «Парень, сейчас ты ЕГЭ реально не сдашь, сдашь его на маленькие баллы. Но есть техникумы. А в техникумах тебе ЕГЭ не надо. Мы тебя туда засунем, ты там выучишься, а потом в вуз». На самом деле — куча вариантов! Или подготовься еще один год, сходи в армию, тебя во многие институты возьмут даже с тройкой, и тогда ты сдашь ЕГЭ. То есть масса выходов, просто он о них не знал. А для парня в конце XIX века их не было.
Далее: раньше были абсолютно реальные летальные риски. Этот краснодарский парнишка не может умереть от голода. Если он сойдет с ума или сопьется, его поместят в интернат, где все-таки кормят. Если пройдет эпидемия тифа, он не умрет, если будет неурожай, он не умрет. Чем выше летальный риск, тем больше у тебя смысловых установок на жизнь. Когда каждый день приходится бороться за жизнь, она становится ценной.
А для современного человека жизнь — не особенная ценность. Когда мы говорим о том, что человек хочет покончить с собой, мы говорим не только о том, что он хочет умереть, вообще-то он хочет расстаться с жизнью. И дальше вопрос: а что такое жизнь? И вся наша профилактика суицида, это так… Ты можешь сказать: «Я хочу прийти и рассказать, почему умирать молодыми плохо», а они скажут: «Вау, приди и расскажи», но в результате тебя подростки услышат наоборот. А если ты скажешь: «Я хочу рассказать, почему клево жить» — помочь может только это!
«Есть норма для всех, и тебя как угодно в это прокрустово ложе втискивают»
— А еще какие есть причины?
— Давай поговорим про школьную историю, не про буллинг, а про моббинг. Знаешь, чем они различаются? Буллинг — это когда тебя травят сверстники. Моббинг — это когда учитель травит. Оценивание — это нормально. Например, на профориентации я говорю человеку: «Вам лучше заняться физической работой, все от этого будут счастливее». А теперь делаем шаг назад и представляем худший образец советской училки, которая орет: «Да тебя даже дворником не возьмут, идиот!». Понимаешь? Вот нас с тобой сейчас в дворники не возьмут — и будут правы. Потому что я не хочу ходить по улицам, если дворниками будем мы с тобой. И если есть человек, который делает так, чтобы я могла не разбивать себе башку, потому что у меня гололед под подъездом. Я считаю, что он делает прекрасную вещь. Мы не знаем, насколько нужны твои статьи и мои лекции. А дворник очевидно нужен.
Так вот, учитель имеет право на оценивание. Но ученик часто получает двойки и тройки, причем часто двойки несправедливые и необъясненные, двойки потому, что он Ваня Петров, и ему будут их всегда ставить, потому что он Ваня Петров. Так и идет травля. На самом деле учителя путают оценивание с моббингом. Почти у всех моих суицидальных клиентов есть история школьного унижения. Причем часто это история на уровне оценивания. Опять-таки, не думаю, что эта тетечка, которая подошла к тому пацану из Краснодарского края и сказала «Нет, мы тебя не допускаем», хотела сделать ему больно. Возможно, она специально делала это на празднике: пива выпьет, с друзьями потусит, и все пройдет, не так больно.
— То есть, как я понимаю, у школьных психологов ответственность как у врачей, а учат абы как?
— Не совсем. У них ответственность как у педагогов. Клинических психологов учат шесть лет, и потом ты работаешь в паре с врачом, которому обычно больше лет. Как раз в медицине у нас в стране более-менее пристойно, а педагогика развалена.
— Не понял, норма по успеваемости?
— По всему. Например, ребенка после детсада направили в класс коррекции, потому что он не назвал комиссии цвета кубиков. Ребенок играет дома с папой, папа армянин и в основном говорит по-армянски. Он знает цвета по-армянски, а по-русски не знает! С другими детьми он разобрался, потому что они без языка друг друга понимают. Мы с тобой можем плохо договориться даже из-за разного произношения, а дети — нормально. У ребенка проблем не было, пока не пришли чужие тети и не сказали, что ребенок будет в классе коррекции. А коррекция у нас, кроме единичных школ, — адище адское. Там ничему не учат, там теряется шанс социализации. Хорошо, что родители были вменяемые, что психолог в школе был нормальный, они дали взятку, потом быстро наняли репетитора по русскому, и он попал в обычный класс. А с другой стороны, чем бы ему помешало в первом классе то, что он не знает цвета?
— Понятно, что это социальный конструкт.
— Он касается бесконечного количества вещей. Ты 40 минут должен сидеть именно в такой позе. Почему в такой, черт возьми? У нас к нынешнему времени в школе нормирование очень жесткое, при этом никто ни за что не отвечает.
— Ну, надо ж доказать, что виноват.
— Нет, часто автоматом. Пока несовершеннолетний находится в школе, за его жизнь и здоровье отвечает кто-то из педагогического персонала.
— Статья по халатности?
— Да. Например, был случай с вроде бы демонстративной попыткой самоубийства, девочка поссорилась с мальчиком. Пошла в туалет, сделала себе надрез на венах, ее привели в кабинет к психологу. Она там сидит, ревет, а молодой психолог с ней одна. Родителей уже вызвали, но с ней надо сидеть. Девочка захлебывается в рыданиях, и психолог вышла принести стакан воды — туалет напротив. А в это время девочка выпрыгнула из окна. У психолога условный срок. А что ей было делать? А если бы девочка захлебнулась от рыданий и умерла бы от асфиксии? Психолог бы тоже села. Связать ее тоже нельзя, даже в психиатрии уже такого права нет.
Так вот, эти «бедняжки»-учителя травят детей не потому, что хотят плохого и бешеные садисты, а просто не могут по-другому ими управлять. А управлять надо. Во-первых, ты не можешь заставить всех полюбить свой предмет. Во-вторых, половина мечтает стрелять рогаткой прямо в тебя, дергать одноклассницу за косичку, прийти в класс с пивом.
Главное, что мы должны делать — это убирать школьный моббинг (травлю со стороны учителей) как норму. И школьное нормирование тоже: оно загоняет ребенка в невыносимую ситуацию, потому что предлагают соответствовать норме, которой он никогда не сможет соответствовать. Это включает нормирование тела. Что от врачей слышат полноватые подростки, прыщеватые… На одной серьезной комиссии разбиралась ситуация, когда врач схватил десятилетнюю девочку с ранним половым развитием за лобковые волосы, начал дергать ее и кричать: «Это че? Ты уже трахаешься, что ли? Что так рано?».
У нас обучение части предметов так устроено, что подразумевает моббинг и буллинг. Учителя частично натравливают детей друг на друга, потому что «разделяй и властвуй». Так удобнее управлять классом. Плюс у нас куча вещей выстраивается на соперничестве. Представь себе урок физкультуры: играют в пионербол, никого не обижают. Просто поноситься и поиграть в мячик. Что делает физрук? «Так, хорошо, капитанами команд становятся Паша и Петя. Паша и Петя, выбирайте себе людей». А теперь представь, как ты будешь себя чувствовать, когда тебя выбирают последним. Физрук должен это как-то по-другому сделать. Научить детей сказать после того, как тебя выбрали последним или не первым: «Слушай, ты мой друг, но сейчас я выбираю по задачам». И этому не учат, хотя должно быть на уровне курса в пединституте. Причем важного.
— А почему ты мне все это говоришь, но не напишешь докладную записку министру?
— Потому что меня пошлют. Были и есть люди, которые пишут гораздо лучше, чем я. Безрезультатно. Потому что возьмут программу, которая удобна под распил, о которой удобно докладывать и которая дает циферки. Чтобы был распил, нужна статистика, а если мы занимаемся реальными этическими вещами, они не подсчитываются.
Вот пример того, что статистическому учету не поддается. Одна из очень важных вещей, которой нужно учить детей, а учить некому, потому что у нас взрослые этого не умеют, — учить хотеть. У нас учат долгу, а хотеть не учат. Это самая офигенная профилактика. Есть три квантора: хочу — не хочу, надо — не надо и должен — не должен. У нас все, что только можно, засовывают в квантор долженствования. Ты должен хорошо учиться. Кому? В «надо – не надо» вписывается «почему». Я хочу, но мне не надо этого делать, потому что будет еще хуже. Но сначала у тебя должна быть нормальная история про «хочу – не хочу». Она первична. А у нас детям хотелки отрезают сразу.
— Отлично! Но скажи, а почему ты обо всем этом рассказываешь только анонимно?
— Сейчас о подростковых самоубийствах пишут все, срывая дешевую популярность. А с каждой публикацией, по сути, становится только хуже. Больше детей слышат о суициде, узнают, что это значимо... Больше родителей и учителей начинает психовать, лучше финансируются конференции и госпрограммы... Ну, и далее понятно. Если для журналистов это хоть как-то объяснимо, то для психологов недопустимо совсем. Я могу лично тебе рассказать, но срывать лавры и приток людей ко мне в психотерапию считаю недопустимым.
Вторую часть интервью о подростковых самоубийствах читайте здесь.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.