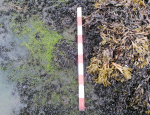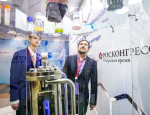Ученые адаптировали для русскоязычного использования психодиагностическую «Шкалу воспринимаемой способности справиться с травмой» (The Perceived Ability to Cope With Trauma Scale, PACT). Этот инструмент применяется психологами всего мира для оценки того, насколько гибко человек способен переключаться от переживания тяжелых событий к восстановлению привычной повседневной жизни. Поскольку гибкость в таких ситуациях помогает избежать долгосрочных психологических последствий, например посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревожного расстройства, специалистам важно точно диагностировать состояние людей, чтобы оказать им при необходимости своевременную помощь. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Consortium Psychiatricum.
Переживание потенциально травмирующих событий, например, внезапной смерти близкого, может иметь серьезные отсроченные последствия для психического здоровья человека. По статистике, более 10% людей, попавших в подобные ситуации, со временем сталкиваются с депрессией, тревожными расстройствами и другими проблемами. При этом успешно пройти через травмирующее событие без серьезных последствий для психики помогает психологическая гибкость — способность человека переключаться между разными стратегиями переживания. Гибкость предполагает баланс фокуса на травме — состояния, когда человек анализирует произошедшее и принимает свою боль, — и фокуса на будущем, который позволяет сохранять оптимизм в отношении будущего и вовлеченность в жизнь.
Психологи всего мира оценивают способность людей использовать обе эти стратегии с помощью разработанной в 2011 году англоязычной Шкалы воспринимаемой способности справиться с травмой. Эта шкала переведена на шесть других языков, но для русскоязычных пользователей она до сих пор не была адаптирована. Для подобных инструментов адаптация (а не дословный перевод) необходима, поскольку она позволяет учесть лингвистические особенности языка и отличия в восприятии тех или иных психологических понятий людьми разных культурных традиций.
Ученые из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва) и Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева (Москва) перевели шкалу на русский язык в соответствии с международными требованиями к переводу подобных инструментов, изменив формулировки некоторых пунктов в соответствии с культурным контекстом России. Исходный инструмент представляет собой опросник из 20 утверждений, разделенных на две субшкалы, одна из которых отражает фокус на травме, а вторая — фокус на будущем.
Адаптированная шкала сохранила исходную двухфакторную структуру, оценивая фокус на травме и фокус на будущем как два отдельных, но взаимосвязанных компонента.
Ученые предложили пройти тестирование с помощью нового инструмента 1054 взрослым людям, пережившим различные травмирующие события, например пожар, взрыв, утрату близкого человека и другие. Кроме того, в число испытуемых вошли сотрудники служб экстренного реагирования — пожарные, спасатели, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи, работа которых связана с риском для жизни и постоянным контактом с чужими страданиями.
«Наше исследование показало, что адаптированная шкала универсальна для людей разного возраста, однако мы обнаружили, что показатели могут несколько различаться в зависимости от пола опрашиваемого, его профессии и наличия психических нарушений. Эти факторы стоит дополнительно учитывать при интерпретации результатов», — поясняет участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Татьяна Шмарина, старший преподаватель департамента психологии НИУ ВШЭ.
Авторы оценили, насколько результаты тестирования каждого респондента коррелируют с симптомами посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревоги. Для выявления таких состояний исследователи использовали дополнительные стандартные опросники — международный опросник травмы и шкалу депрессии, тревоги и стресса.
Высокие показатели фокуса на будущем были отрицательно связаны с симптомами психических расстройств, вызванных травмой, а высокие показатели фокуса на травме, напротив, коррелировали с ними положительно. Это подтверждает, что методика точно улавливает содержательные особенности переживания травмы и может использоваться для оценки рисков появления посттравматического стрессового расстройства, депрессии и других психических расстройств у респондентов.
«В дальнейшем мы планируем сосредоточиться на выявлении механизмов, через которые аутентичность личности, то есть верность самому себе и своим ценностям, способствует устойчивости и более эффективному совладанию с травматическим стрессом у сотрудников экстренных служб, гражданского населения и, возможно, людей с симптомами посттравматического стрессового расстройства. Каждый человек, в силу эволюционной необходимости, обладает ресурсами преодоления травм и трудных жизненных ситуаций, однако эти ресурсы не универсальны, а индивидуализированы, и потому нельзя предложить единую программу психологической профилактики и реабилитации. Какими бы ни были рекомендации, для кого-то они будут более эффективными, а для кого-то — нет. Аутентичность личности повышает восприимчивость человека к своим уникальным свойствам и ресурсам, таким образом усиливая их и понижая риски вмешательств», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Софья Нартова-Бочавер, доктор психологических наук, заведующая научно-учебной лабораторией психологии салютогенной среды НИУ ВШЭ.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.