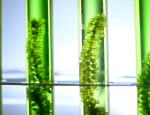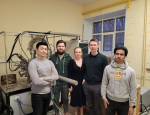— Руслан Зуфарович, первый вопрос связан с выборами в РАН. Вас не рекомендовали к избранию на вакансию по «конструкционным материалам». Рекомендовали других ученых: Алексея Колмакова (количество статей — 42, цитируемость — 623, индекс Хирша — 6) и Ирину Кручинину (количество статей — 14, цитируемость — 9, индекс Хирша — 2). Можно как угодно относиться к индексу Хирша, но, когда в стране на самом высшем уровне говорится о том, что необходимо повышать цитируемость, увеличивать публикационную активность, почему происходят подобные странности?
— Не выбрали вас, известного химика Александра Кабанова, лауреата Филдсовской премии Станислава Смирнова. В этом ряду оказаться, наверное, не менее почетно, чем в ряду академиков.
— Повторюсь. Будь я в среде тех, кто выбирает, я бы тоже подумал, а кого выбирать? Люди же выбирают тех, кто им нужен. Активно работающие ученые с «хиршем» часто противоречат тому, что существует. Поэтому, если смотреть изнутри, с позиции тех, кто голосует, лучше голосовать против, даже если он вполне нормальный человек. Сама система выборов, по моему мнению, требует пересмотра.
— В последние несколько лет не умолкают споры относительно того, как государство и общество могут измерять результативность и эффективность деятельности ученых. Со стороны государства идет запрос на увеличение цитируемости, то есть на наукометрические показатели. Можно ли, на ваш взгляд, только на основе наукометрических показателей оценить эффективность ученого?
— В российском обществе мнения противоречивы. По каким параметрам мы определяем, кто такой ведущий ученый, что такое передовая наука? Даже у нас внутри Совета по науке при Минобрнауки нет единой точки зрения на такие важные параметры, как эффективность научной работы. Но общий курс при предыдущем министре был понятен, он был на активизацию эффективности научной работы. Считалось, что важно рассматривать не только субъективные экспертные оценки, но и параметры, которые типичны для международной науки, например, наукометрические показатели. Мы видели, что это неоднозначный вопрос, много подводных камней, но тем не менее можно выработать оптимальный подход.
Недавно президент утвердил Стратегию научно-технологического развития России. Это весьма важный документ, он определяет направления деятельности. А на прошлой неделе исполняющий обязанности главы департамента науки и технологий Минобрнауки Сергей Матвеев, один из разработчиков Стратегии, сказал, что сейчас очень важно сопроводить Стратегию более конкретными документами, которые покажут, как она будет реализовываться, какими будут механизмы и как будет измеряться эффективность науки. Принципиальный вопрос, что такое эффективность и результативность науки?
Современная наука подразделяется на фундаментальную, поисковую и прикладную. С эффективностью прикладной науки все более или менее ясно, она призвана решать насущные, ближайшие задачи, естественно, ее результативность оценивается по прикладному значению, по внедрению результатов. Здесь видно лидеров, ведущих ученых. А в фундаментальной и поисковой науке результат виден не сразу, а через десятилетия. И непонятно, по каким параметрам его оценивать. В международной среде, в том числе в Индии и Китае, 10-15 лет назад принят подход, в котором важны наукометрические показатели. При этом применение наукометрических показателей в разных направлениях существенно различается. В классической физике все ясно, а вот в математике, где решают много головоломок, такие подходы могут не работать. Хотя принцип понятен: должна быть высокая публикационная активность в авторитетных журналах. Цитируемость подтверждает популярность и пионерский характер публикаций, как правило, это коррелирует. Хотя понятно, что одним индексом Хирша активность ученого не измеришь.
— Что еще необходимо учитывать?
— Мы в Совете по науке предлагаем «пакет» характеристик. Например, для России важно, как развивается научная школа, поскольку у нас проблема с молодежью. Важно, сколько ты подготовил кандидатов наук, докторов. Необходимо учитывать приглашенные, ключевые доклады, потому что в последние годы резко сократилось количество выступлений российских ученых с такими докладами, которые задают тон на международных мероприятиях. Идут мировые форумы и если докладывают профессора с русскими фамилиями, то они скорее представляют Гарвард или Стэнфорд, а не российский университет. Я говорю о своих направлениях, нанотехнологиях и материаловедении, но это типично и для других научных областей.
— У нас мало исследований или российские ученые недостаточно интегрированы в мировую науку?
— Это комплексный вопрос. Но я хотел бы отметить, что наукометрический подход в России не имеет активной поддержки. В Министерстве образования и науки при выборе проектов он в какой-то мере учитывается. Но я знаю среду экспертов, рецензентов. Проект попадает к рецензенту, а в формах, по которым оценивается работа, требования к наукометрическим показателям часто отсутствуют.
В РАН получила позицию альтернативная точка зрения, которая была и раньше. Она состоит в том, чтобы оценивать не по наукометрическим параметрам, а в соответствии с мнением экспертов. Но здесь возникает вопрос, кто эти эксперты, которые решают судьбы проектов? Это члены РАН, там выбраны самые объективные ведущие ученые, и они судят. Может быть, раньше так и было, но все равно к выборам в РАН были вопросы. Конечно, это очень престижно быть членом академии, они пользуются привилегиями, плюс есть финансовая поддержка со стороны государства. Практически во всех странах мира академики платят взносы за участие, а у нас им самим обеспечивается финансовая поддержка. Так что к экспертам много вопросов. И одна из причин перестройки Академии, начавшейся три года назад, состоит в том, что все больше и больше ошибок в ее деятельности. То, что в этих выборах произошло… Мы видим, что уже президент страны подключился к рассмотрению того, сколько там странных решений.
Так что, думаю, если опросить научное сообщество страны, ответы получатся 50 на 50. Половина скажет, что надо придерживаться международных правил, а другая половина, что международные параметры не подходят России и мы должны придумать что-то свое. Общепринятого решения нет, и в итоге у нас подвешенное состояние.
— В бюллетене №17 «В защиту науки» появилась статья про технологию накрутки индекса Хирша, в которой упоминаетесь вы и Тэренс Лэнгдон. Как вы к этому относитесь?
— В статье рассказали, что «хирш» можно выращивать с помощью специальных «грязных» технологий. Наверное, это можно сделать, когда показатели от трех до пяти, но, когда индекс Хирша 40 или выше 50, трудно представить конкретный пример. С другой стороны, определенная технологичность есть. В 2017 году по нашей тематике «Наноматериалы» пройдут семь мировых конгрессов в разных странах. Я член международного комитета и знаю, как все работает изнутри.
Во-первых, наш комитет старается эту тему преподносить с помощью публикаций в высокорейтинговых изданиях. Не только в Nature и Science, но и, например, в Progress in Materials Science. Во-вторых, некоторые коллеги из Америки и Германии уже в возрасте, и они вырастили замечательные школы. У моего друга, профессора Лэнгдона, сейчас не очень большая лаборатория, но у него «хирш» больше 100. Почему так? Потому что его ученики, которым сейчас лет по 40-45, стали профессорами ведущих американских, европейских, японских, китайских университетов. Многие поддерживают с ним связь и публикуют совместные статьи. Показатели Лэнгдона складываются с помощью его учеников, но воспитать таких учеников — великий труд. К тому же его публикации двадцатилетней давности стали классическими, по ним сегодня учится весь мир. В этом и состоит технология, совершенно очевидная, когда человек становится классиком в своем направлении науки. Его опыт надо брать в пример, а не записывать в «черные технологии».
К слову, я тоже подготовил 12 докторов наук и больше 40 кандидатов, мои подопечные на ведущих позициях в университетах Америки, Германии, Испании, естественно, я продолжаю с ними работать.
— Недавно глава ВАК Владимир Филиппов предложил ввести PhD и приравнять к степени докторов наук. Как вы относитесь к этой инициативе?
— Если говорить о международной интеграции, то о том, чтобы вводить PhD, надо думать. Курс на мировые академические стандарты держать надо, и в нашей стране есть пилотные проекты, которые покажут, подходит это нам или нет. Например, СПбГУ добился права проводить защиты ученых степеней по собственным правилам и присуждать собственные ученые степени, статус которых теперь является государственным. Но надо не просто приравнять к чему-то PhD, надо эту степень вводить параллельно с кандидатом наук и доктором наук. В 2017 году у нас еще будут проходить защиты и по традиционной системе.
— Сегодня в научной и околонаучной сфере очень часто употребляется слово «инновации». Его очень любят чиновники, а вот, например, ректор Сколтеха академик Кулешов относится к модному термину негативно и отмечает, что через пять лет про «инновации» уже все забудут. А как вы относитесь к тому, что научное сообщество так активно склоняют к инновационной деятельности?
— Инновационные разработки — это основа новых технологий. К сожалению, Россия, очевидно, отстает в технологическом развитии. Причин много, одна из них — повышенное внимание нефтегазовому сектору, что было в 2000-х годах, до кризиса. Страна развивалась, концентрируясь на этом направлении, и это было упущенное время.
Если рассматривать инновации как шаг к высоким технологиям, то это нормально, другой вопрос, как их строить. В России очень много проблем с инновационной цепочкой. Инновацию надо выращивать по этапам, в том числе с помощью государства, регионов. Потому что не может один профессор сделать открытие, а потом еще и довести его до массового внедрения. В России уже есть примеры такого «выращивания». У нас в университете в этом году открылась новая образовательная программа — инженерно ориентированная физика. Началось все с того, что компания Tavrida Electric столкнулась с тем, что нет базы, где готовят специалистов для реального производства. Они разрабатывают мощные энергетические приборы и устройства. А инженеров, которые знают фундаментальную физику, имеют университетское образование и могут применять это на практике, явно не хватает.
— Расскажите поподробнее про ваши последние исследования и разработки.
— Мы работаем с наноструктурированными металлическими материалами. Почему с ними интересно работать? Когда мы создаем структуру при одном и том же химическом составе, мы можем качественно менять его свойства. После наноструктурирования некоторые характеристики, например, алюминиевого сплава могут в 10 раз измениться, он становится прочнее стали и так далее.
Работая с алюминиевыми и медными материалами, мы показали, что можно придавать им мультифункциональные свойства. Когда мы делаем новый провод, скажем, для линий электропередач, он должен быть очень прочным и электропроводящим. С точки зрения физики это понятия противоположные. Когда мы делаем материал прочнее, у него нарушаются физические характеристики, например, резко снижается электропроводность. Через наноструктурирование мы показали, что можем комбинировать и повышать одновременно и прочность, и электропроводимость. Но это пока очень маленькие образцы в лаборатории. Чтобы что-то использовать практически, нужно двигаться к реальным изделиям и делать их дешевле.
Наша вторая разработка — междисциплинарная. В лаборатории, созданной при поддержке мегагранта правительства, мы делаем имплантат из нанотитана и помещаем его в человеческий организм. Он должен быть биоинертным или биоактивным, отсюда совершенно особые требования к материалам. Он взаимодействует с кровью, костью, поэтому нужно специальное покрытие. И мы придумали покрытие, которое не меняет механическую структуру. Поскольку наш нанотитан очень прочный, мы можем делать миниатюрные имплантаты. Это облегчает стоматологические и хирургические операции. Сейчас это еще не массовое производство, и наша задача — разработать опытные изделия, наладить более тесные контакты с медиками.
— Вы продавали ваши разработки?
— Да, мы продавали наш нанотитан. За границу. В Чехии из него производили стоматологические имплантаты, которые вживили более чем 4000 пациентам, в США были проведены сотни успешных операций.
— Получается, что в Америке и Чехии ваши разработки покупают, а в России они не интересны?
— Проблема с имплантатами была в следующем. Два года назад российским медикам было гораздо проще купить имплантаты за границей, потому что при этом обеспечивалось технологическое сопровождение операции, в частности инструменты, программное обеспечение. Наши медики с удовольствием ездили на обучающие программы в Швейцарию или Израиль. Сегодня поставки из-за рубежа подорожали, из-за санкций пошли сбои. Стал актуальным вопрос импортозамещения, как такую высокотехнологичную продукцию делать в России? Мы сейчас заняты налаживанием всей инновационной цепочки. Пока мы находимся на стадии отработки контактов с медиками и опытного апробирования. Это еще только подготовка к массовому бизнесу. В процесс должны включиться компании, специализирующиеся на медицинской технике, которым в России еще совсем недавно выжить было сложно.
— Ощущаете ли вы сейчас поддержку со стороны государства?
— За два года сделали очень много, в частности разработали три типа поверхностей. Теперь проблема состоит в том, чтобы получить медицинские результаты, например, опробовать изделия из новых материалов на кроликах, а это уже дорого и нужны новые ФЦП. Скоро текущий проект заканчивается, и мы не знаем, выиграем ли мы еще грант или исследования придется приостановить.
— Но когда есть разработка, наверное, проще получить поддержку уже не со стороны государства, а от бизнеса? Интересны ли наукоемкие проекты бизнесу?
— Если это «завтра и за три рубля», то бизнес встанет в очередь. Нам говорят: «Вот сделаете массовое производство, приходите и мы поговорим». Но, если мы сами наладим массовое производство, зачем нужна поддержка? Создали «Сколково», «Роснано»… Когда пошла речь о коммерциализации, они требуют софинансирования от партнера, но возникли вопросы. Например, кому должны принадлежать права на интеллектуальную собственность. Предлагается государственно-частное партнерство, но каждый тянет одеяло на себя. Поэтому о внедрении сколковских разработок пока мало кто знает.
— Когда можно будет говорить, что в России есть полноценная индустрия производства наноматериалов?
— К сожалению, индустрия плохо поворачивается. Есть предприятия, которые являются индустриальными партнерами. По проводникам у меня есть недавний яркий пример с «Русалом». Мы начали с ними проект ФЦП, а потом они посчитали, что мы слишком медленно для них работаем. Мы их привели в Сколково, но и там они не нашли общего языка. Позиция партнера: «Эта разработка нам нравится, поэтому она должна полностью нам принадлежать». В Сколково ответили, что у них свои правила. Через два-три месяца стороны заявили, что не работают друг с другом. Сейчас «Русал» несколько меняет свой менталитет и будет создавать прикладной институт, научно-образовательное учреждение в Москве. Будем надеяться, что они станут помогать «выращивать» научные разработки.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.