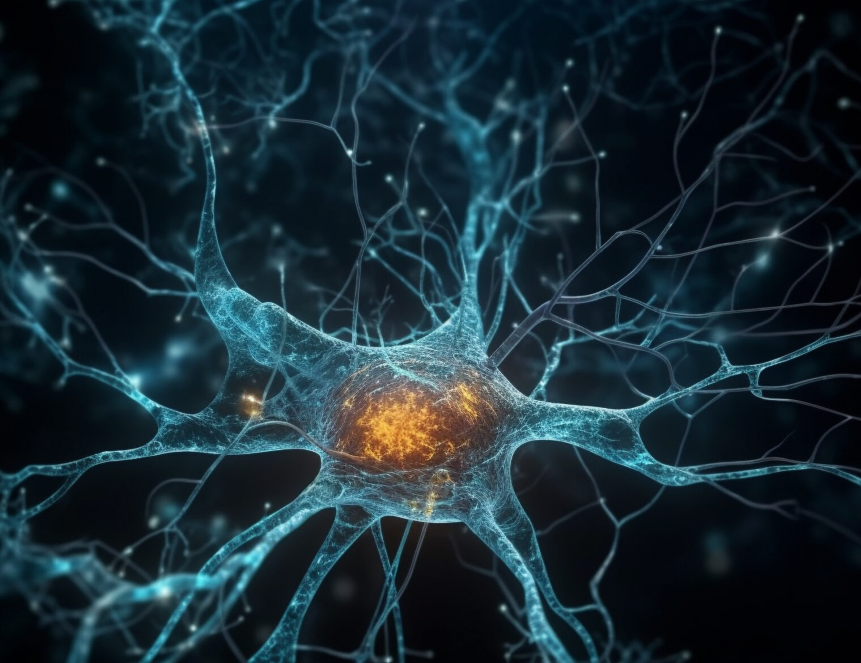
В преддверии V международной конференции Volga Neuroscience Meeting 2025 прошла третья научная школа центра «Идея» «Нейропластичность, обучение и память», в рамках которой ведущие специалисты из разных стран рассказали о последних достижениях в области нейробиологии. Мы уже рассказывали о предыдущих днях научной школы (часть 1 и часть 2).
Завершающий день открылся лекцией Алексея Малышева (Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН), посвященной локальным и клеточным механизмам синаптической пластичности. Ученый начал с классической модели, основанной на правиле Хебба, но сразу отметил, что это значительное упрощение, и современные исследования раскрывают гораздо более сложную картину.
Затем Алексей Малышев перешел к подробному разбору ключевых экспериментальных моделей, используемых для изучения синаптической пластичности. Особое внимание он уделил классическому парному протоколу (pairing protocol), в котором повторяющаяся коактивация пресинаптического входа и постсинаптического нейрона приводит к долговременной потенциации (LTP), лежащей в основе процессов обучения. Вторая модель подразумевает экстрацеллюлярную запись с интрацеллюлярной стимуляцией, а третья — химически индуцированную LTP, которая усиливает синаптическую передачу. Отдельно Малышев обратил внимание слушателей на феномен локально координированной пластичности, открытой в ранних экспериментах, при которой индукция LTD в одном входе вызывала LTP в соседнем и наоборот, формируя профиль изменения силы синапсов, напоминающий, как точно отметил лектор, «сомбреро».
Настоящую революцию в этой области произвели оптические методы. С появлением двухфотонной микроскопии и методов точечного высвобождения глутамата стало возможным в живом мозге (in vivo) стимулировать и визуализировать отдельные дендритные шипики. Эти эксперименты прямо продемонстрировали, что высокочастотная стимуляция одного шипика вызывает не только его долговременное усиление и рост, но и ослабление (LTD) его ближайших соседей, обеспечивая высокую селективность и кластеризацию синаптических изменений.
Алексей Малышев также поделился интересным наблюдением: ключевую роль в механизмах синаптической пластичности играет продукт гена Arc. Его уникальность в том, что его мРНК после транскрипции активно транспортируется в активированные синапсы, где происходит ее локальная трансляция. Были приведены данные, что инъекция антисенс-олигонуклеотидов, блокирующих трансляцию Arc, всего через два часа после индукции LTP полностью отменяет потенциацию, что подчеркивает критически важное и узкое временное окно для его функции по стабилизации актинового цитоскелета и роста шипика.
Но самое поразительное свойство Arc — его структурное сходство с белками капсида ретровирусов. Белки Arc способны самособираться в вирусоподобные частицы, которые могут быть выделены нейроном во внеклеточное пространство. Эти капсиды, содержащие мРНК Arc, способны поглощаться соседними нейронами и вызывать в них даун-регуляцию рецепторов глутамата, выступая принципиально новым механизмом межнейронной коммуникации. Интересно, что у дрозофилы ген Arc, возникший в результате конвергентной эволюции, играет роль в пресинаптической пластичности.
Эти механизмы находят свое отражение в концепции «синаптического теггинга» и кластеризации. Идея заключается в том, что активированный синапс помечается меткой (tag), которая позволяет ему захватывать ресурсы (белки, мРНК, рецепторы), необходимые для консолидации LTP. Как показывают эксперименты, потенциация может распространяться и на неактивные синапсы в пределах небольшого расстояния, если они находятся на том же дендрите, что и активный шипик. Это создает кластеры усиленных синапсов, которые, как предполагается, являются элементарными единицами хранения информации в нейронной сети.
Современные данные кардинально меняют представление о синаптической пластичности: она уже не может рассматриваться как простое изолированное усиление отдельных контактов. В действительности этот процесс представляет собой сложноорганизованное пространственное взаимодействие, в рамках которого локальные изменения в одном шипике неразрывно связаны с состоянием его соседей и всей клетки. Таким образом, синаптическая пластичность представляет собой целостный процесс, в рамках которого координированные изменения кластеров синапсов, опосредованные молекулярными механизмами вроде белка Arc, формируют клеточную основу памяти.
Эпизодоподобная память у животных: поведенческие критерии и эволюционный смысл
Следующая лекция, представленная Николой Клейтон из Кембриджского университета, перевела внимание аудитории с молекулярного уровня на проблемы высшей нервной деятельности, и все дальнейшее повествование было посвящено ответу на следующий вопрос: «Похожа ли эпизодоподобная память животных на эпизодическую память человека?»
Никола Клейтон начала с определения концепции «ментального путешествия во времени» — субъективного чувства повторного переживания конкретного события прошлого с осознанием того, что произошло, где и когда, и пониманием, что эти воспоминания принадлежат собственному «Я». Однако такой подход, основанный на феноменологии, антропоцентричен. Чтобы избежать этой ловушки, был предложен поведенческий критерий, известный как память «что, где, когда».
Классическим доказательством существования такой памяти у животных стали эксперименты 1998 года. Сойки, выступившие в роли объекта исследования, запасали два типа пищи — скоропортящихся личинок и арахис — в разных местах. Если у птиц была возможность найти свои «схроны» через небольшой промежуток времени (4 часа) после начала эксперимента, тогда они предпочитали личинок. Однако если до возможности получить запасы еды проходило значительно больше времени (124 часа), в течение которого личинки портились, птицы переключались на арахис. Это продемонстрировало ученым, что сойки запоминали не только место и тип пищи, но и время ее запасания.
Особое внимание в экспериментах было уделено чистоте методики, чтобы исключить любые альтернативные объяснения поведения птиц. Для этого ученые проводили контрольные испытания, в которых на этапе поиска пища из тайников извлекалась. Птица, подойдя к пустой кормушке, должна была продемонстрировать свое предпочтение — какой именно тайник она будет исследовать в первую очередь и наиболее активно.
Этот подход позволил доказать, что выбор птиц основывался не на общей узнаваемости объекта или места, а на точном воспоминании о конкретном факте запасания. Чтобы окончательно исключить возможность простого ассоциативного обучения по принципу «место А — всегда червь, место Б — всегда арахис», исследователи применяли сложные протоколы. В них пространственное расположение приманок и временные интервалы между запасанием и поиском систематически менялись.
Такая переменная схема заставила птиц каждый раз принимать решение на основе комплексного воспоминания: что именно, в каком месте и как давно было спрятано. Именно эта триада «что — где — когда», а не простые ассоциации, определяла их поведение, что является ключевым признаком эпизодоподобной памяти.
Далее Клейтон расширила концепцию, включив дополнительные поведенческие компоненты: непроизвольное кодирование информации и память об источнике полученных знаний. Яркой иллюстрацией стала демонстрация стратегий защиты запасов: если птица ранее сама воровала чужой корм, она с большей вероятностью перепрятывала свои собственные запасы в отсутствие «воров», проецируя свой прошлый опыт на будущие действия.
Были представлены и новаторские методы изучения когнитивных способностей животных с помощью магических трюков. Опыты с сойками позволили установить, что птицы поддавались иллюзии, основанной на быстром движении (трюк Fast Pass), которая эксплуатирует общие ограничения зрительной системы. Однако они не обманывались фокусами, требующими понимания специфики человеческой анатомии (трюк French Drop). Это указывает на то, что восприятие подобных иллюзий зависит от телесного опыта — врожденных или приобретенных ожиданий о том, как двигаются конечности конкретного вида и как происходит манипуляция объектами. Поскольку манипуляции человека чужды сойкам, их мозг не формирует ожиданий, необходимых для возникновения иллюзии.
Таким образом, лектор представила убедительные доказательства того, что сложные формы памяти, включая элементы планирования будущего, не являются исключительной прерогативой человека и независимо возникли в ходе конвергентной эволюции у видов со сложной социальной организацией, таких как врановые птицы.
Онтогенез нейронных сетей: от спонтанной активности к сенсорно-зависимой пластичности
Последняя лекция завершающего, третьего, дня школы была посвящена активности в развивающихся нейронных сетях. В своем выступлении Рустем Хазипов [Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета] раскрыл фундаментальные принципы формирования мозга, начав презентацию с парадоксального наблюдения: при наличии 86 миллиардов нейронов и 40 тысяч синаптических входов на каждый кортикальный нейрон средняя частота потенциалов действия составляет лишь около 1 в секунду. Однако внутриклеточные записи in vivo демонстрируют высокую частоту миниатюрных ВПСП (возбуждающий постсинаптический потенциал) и ТПСП (тормозной постсинаптический потенциал) 10–30 Гц в среднем, что указывает на интенсивную фоновую активность даже в отсутствие стимуляции.
Ключевой вопрос выступления касался механизмов формирования специфических связей в развивающемся мозге. Хазипов ввел понятие критического периода — фазы повышенной чувствительности к внешним стимулам, во время которой опыт особенно эффективно влияет на архитектуру нейронных сетей. Ярким примером этому может служить феномен импринтинга, уже упоминавшийся в ранних лекциях.
Важно подчеркнуть, что развитие нейронных сетей не является хаотичным процессом, а следует строго поэтапно. Как отметил Рустем Хазипов, изначально архитектура связей формируется под влиянием спонтанной активности — эндогенных, генерируемых изнутри паттернов, которые создают базовые нейронные ансамбли по принципу «наилучшего предположения» в отсутствие внешних данных. Затем, после полного формирования сенсорных систем, вступает в силу следующая фаза, в которой мозг начинает все больше полагаться на внешнюю стимуляцию. Таким образом, сенсорный опыт не создает связи с нуля, а модифицирует и оттачивает заранее подготовленные заготовки, обеспечивая их точную адаптацию к реальному миру.
Далее Хазипов детально разобрал пример формирования «колонок доминирования зрения» (ocular dominance columns) в зрительной коре. Было показано, что их базовая структура создается еще до рождения под влиянием спонтанных волн активности в сетчатке (retinal waves). Эти спонтанные волны активности, регистрируемые массивами электродов, распространяются одновременно в верхнее двухолмие и зрительную кору, где они организуют нейронные связи по принципу Хебба — нейроны, активирующиеся синхронно, образуют устойчивые соединения друг с другом.
Особое внимание было уделено открытию «транзиентов медленной активности» (slow activity transients) в зрительной коре новорожденных крыс, которые гомологичны паттернам «дельта-щеток» (delta brushes) у недоношенных человеческих младенцев на 30-й неделе развития. Эти паттерны, регистрируемые как во сне, так и во время бодрствования, демонстрируют удивительную универсальность среди разных видов.
Хазипов подробно осветил переход от фазы спонтанной активности в фазу сенсорного опыта — так называемый developmental switch. Этот переход происходит стремительно (менее чем за 12 часов) и совпадает с открытием глаз у грызунов. Именно после этого переключения начинается критический период пластичности, в пределах которого сенсорный опыт может значительно модифицировать нейронные цепи.
В качестве клинического подтверждения действия описанных механизмов лектор привел данные о пациентах с врожденной катарактой: если в течение первого года жизни не восстановить светопроводимость структур глаза и не обеспечить нормальное поступление зрительной информации, возможность формирования полноценного зрения утрачивается безвозвратно. Рустем Хазипов доступно объяснил, что созревание парвальбумин-экспрессирующих интернейронов играет ключевую роль в закрытии критического периода, выполняя функцию физиологического ограничителя пластичности. Этот процесс представляет собой молекулярный «тормоз», постепенно снижающий способность нейронных сетей к масштабной реорганизации под влиянием внешних стимулов.
Таким образом, лектор представил целостную картину развития нейронных сетей: от спонтанных волн активности, формирующих фундаментальную организацию, до критических периодов, в рамках которых сенсорный опыт тонко настраивает и избирательно укрепляет нейронные связи, обеспечивая их адаптацию к конкретным условиям внешней среды.
Завершила научную школу торжественная церемония, во время которой с заключительным словом выступил научный директор центра «Идея» Тагир Аушев. Он подчеркнул значимость подобных мероприятий для развития научного сообщества: «Мы не в первый раз проводим школу и поддерживаем конференцию. Маленькие шаги — такие же важные, как и большие открытия, — направлены на вас, на тех, кто будет действовать в будущем».
Аушев отдельно отметил синергетический эффект научных собраний: «Почему мы проводим эти встречи? Важен эффект энергии, когда люди объединяются для общей цели, в данном случае — познания мозга. Никакое открытие не может быть сделано в одиночку. Только тесно связанное сообщество может добиться успеха».
Научный директор и член-корреспондент РАН призвал участников поддерживать установленные контакты и создавать совместные проекты, пожелав удачи в жизни и науке. По окончании торжественной речи всем присутствующим были вручены сертификаты об успешном прохождении курса лекций в рамках третьей научной школы, подтверждающие их участие в этом знаменательном событии.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.





